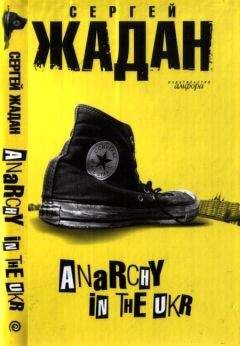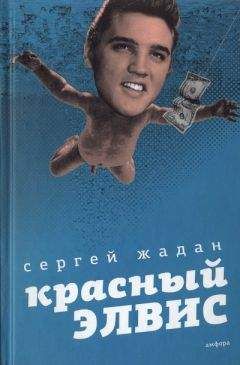Хуже всего будет, когда я вдруг все это забуду, это чуть ли не единственное, чего я действительно боюсь, — забыть, утратить все, что таким удивительным и неожиданным образом произошло, лишиться памяти, лишиться главного. То, что выхватывается из окружающего пространства, то, из чего старательно и настойчиво складываются рисунки, понятные только тебе, то, к чему бесконечно возвращаешься, пытаясь справиться с этим и ощущая, как твои собственные рисунки выскальзывают из понимания, — все это странным образом лежит совсем близко, почти на поверхности, стоит лишь пробить эту поверхность, как консервную банку, и все: вот она — наша с тобой жизнь, наша с тобой кровь; в воздухе за тобой на какой-то миг остается сквозняк, и этого сквозняка, этого движения в воздухе совершенно достаточно, чтобы ощутить и понять, как ты рос, как ты вгрызался в эту жизнь, как выбирался на холмы и сваливался в черные ямы, как проваливался в глубокий снег и нырял в черную августовскую воду; по этому сквозняку, который ты поднял, пройдя сквозь время, можно догадаться, как сильно ты любил и как будет не хватать тебе твоей любви там, где ты скоро исчезнешь.
Я дописываю эту книгу в мае, сидя в своей комнате на третьем этаже, я сижу тут уже четвертый месяц, комната эта, в общем, многое видела, пару трупов отсюда за это время выносили, и то, что они, эти трупы, потом кое-как оживали и возвращались к жизни, свидетельствует именно в пользу жизни, а не в пользу этих трупов. Я сижу и наблюдаю, как мимо меня движется время. Оно пытается делать это тихо и незаметно, по большому счету, ему это удается, за ним действительно тяжело наблюдать, оно умелое и выносливое, оно, в отличие от меня, умеет ждать и не устает от бесконечного изнурительного движения, и лишь время от времени, когда делает резкие и неосторожные движения, соленая волна сбивает с ног очередного свидетеля, с которым мне довелось стоять на одном побережье.
Пару месяцев назад умер мой приятель, старый поэт, веселый эмигрант, который беззаботно шатался по этому миру всю свою жизнь, останавливаясь там, где ему нравилось, не делая особых проблем из тех неурядиц, которыми снабжал его мир, выбирая из мира смачные и сочные куски, как то поэзию и алкоголь, имитируя нормальную жизненную позицию, имитируя свою включенность в общую рутину, прекрасно чувствуя себя среди чужих и непонятных ему обстоятельств, но, по большому счету, так и ограничиваясь алкоголем и поэзией. Почему я не ощущал его отсутствия эти два месяца, ведь я действительно ни разу даже не вспомнил о нем. С другой стороны, что бы это изменило? Он стоял на одном со мной побережье, он так же, как я, стоял в темноте и всматривался в синее отсутствие изображения, и его внезапное исчезновение, по большому счету, никого не касается, у него были свои отношения с пустотой, у меня — свои. На этом и строится принцип человеческого братства — все, что ты можешь, это лишь поддерживать кого-то своим присутствием, все остальное от тебя не зависит, но и ты не зависишь от всего остального. Внимательно следи за волнами — одна из них твоя.
Мы сидим в аэропорту Кеннеди, и он говорит, что они с сыном, как только я свалю отсюда, поедут в Нью-Джерси, в какую-то коммуну, по его словам, это даже и не коммуна, а бывшая табачная фабрика, которую в свое время заселили свободные художники, а теперь их оттуда выбрасывают на улицу, и они устраивают отходную, сегодня там все перепьются, а тех, кто выживет, выходило так, завтра выбросят на улицу. Он рассказывает, а я думаю, что это не очень хорошо, то, что его сын все это увидит, — нехорошо, когда дети в таком возрасте видят, как на улицу выбрасывают свободных художников, по-моему, это не лучший опыт. Дети, наоборот, должны видеть, как свободные художники занимают фабрики и заводы, как толпы свободных художников, которыми себя также могут считать просто безумные жители наших городов, всяческие там безработные, уличные воры, наркоторговцы, проститутки — обязательно проститутки, я настаиваю, — скейтбордеры и алкоголики; как их толпы захватывают фабрики и супермаркеты, как они вламываются в офисы и антикварные магазины, как они укладываются спать на кожаных кушетках в помещениях банков, как разводят костры в галереях современного искусства и устраивают там многодневные веселые оргии, которые заканчиваются коллективной белой горячкой. Одним словом, ребенок должен видеть здоровые и сильные эмоции, позитивные переживания, не стоит травмировать детскую психику картинами социального и жизненного поражения свободных художников, нельзя, чтобы ребенок сызмальства пришел к мысли, что в этой жизни, в этой стране тебя каждую минуту могут выбросить на улицу, и тогда хоть член соси — никому ты не нужен со своими картинами и независимой жизненной позицией. Дети должны расти в нормальных условиях, в нормальном, в конце концов, обществе, в обществе, где ни один клерк и ни один легавый не будет совать нос в твои документы, где никакая власть, насколько бы ссученной она ни была, не сможет достать тебя на твоей табачной фабрике, чем бы ты там ни занимался, хоть бы ты там трупы расчленял, если это твой собственный труп — расчленяй на здоровье; дети должны как можно раньше понять, что потенциально любая фабрика для того и существует, чтобы ее можно было захватить и устроить на ее территории шабаш, иначе для чего ее сооружали? Ребенок, который сызмальства осознает всю ненужность, неуместность и вредоносность системы, в которую он волею судьбы попал, — у такого ребенка неплохие шансы в итоге присоединиться к одной из толп, и тогда уже за него волноваться не приходится. Волноваться куда больше нужно за тех, кто так и не сумеет избавиться от зависимости от ближайшего отделения коммерческого банка, вот за них нужно волноваться, именно из них получаются серийные убийцы и публичные политики, свободные художники из них точно не получаются.
На этом мы и разошлись — они с сыном поехали на фабрику, я полетел в свою комнату на третьем этаже, имея при себе нарезанные им диски и вельветовый пиджак с надписью на спине. Пиджак попался мне при довольно забавных обстоятельствах, я увидел его в одном из магазинов военной одежды, фишка была в том, что на него можно было набить трафаретную надпись, ну что, спросил меня продавец, молодой афроамериканец, так это кажется называется, какая картинка тебе нравится. Хочешь Че? Не хочу, сказал я, Че давно умер. Все мы умрем, сказал он. О, кстати, добавил, есть клевая картинка, тут написано «Жить быстро, умереть молодым». Хочешь? Умереть молодым? спросил я, не хочу. Но картинку можешь набить, все равно лучше, чем Че.
О’кей, сказал он, еще десять баксов.
Варшава, 2005–05–16