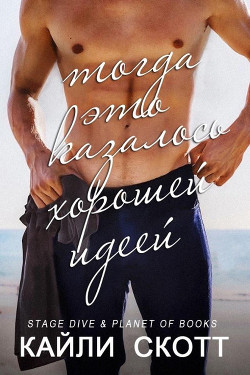бабушки. Отец бухал, водил своих дружбанов, барагозил по синьке, и Родя его хоть и любил сильно (всегда так по-пацански нежно растягивал гласные, говоря: «ба-а-атя»), но жутко стеснялся и всегда краснел, когда в погожий вечерок нахлеставшийся папаша терялся где-то на районе, обязательно повстречав при этом всех Родиных приятелей. Его отца знали все, кто знал район.
Родя, как и большинство из нас, предпринял было жалкую попытку получить образование и, как и большинство из нас, провалился. Но ему удалось быстро взяться за ум (не растягивая безделье на годы), он пошёл работать, приняв тот факт, что ничего другого ему не светит, тогда как все мы тешили себя фантазиями о великом будущем. Пацаны стебали его, мол, тупой, не смог даже шарагу закончить, мол, работает продавцом обуви, платят мало, начальник унижает, а он не уходит. Родя лишь отшучивался в ответ, пожимая плечами, и в итоге получалось так, что никто нигде толком не учился и не работал, а Родя имел стабильную зарплату и потихоньку рос в должности.
Но было ещё кое-что. Там, далеко, в тех мерцающих домах за шоссе, железнодорожными путями и промзоной жила его родная мать с маленьким ребёнком от другого мужчины. С мужчиной опять как-то не повезло, и она вновь осталась одна. Рома работал по шесть дней кряду, чтобы помогать матери содержать того ребёнка. Он покупал малому игрушки, привозил еду, присылал денег ей на карту. Иногда он ночевал у неё. Иногда просто ездил в свой выходной. Иногда заскакивал лишь на несколько минут. Всякий раз, когда мы спрашивали о том, где он был, он весь как-то багровел, сутулился, отводил глаза, ковырял носком землю, тихо отвечая: «Да к мамке ездил». И все понимали, что больше ничего спрашивать не надо.
Он был из таких людей, с которыми как-то сразу начинаешь говорить об очень личном, глубоко спрятанном (впрочем, как и со всяким русским человеком). Самыми простыми словами, в которых, кажется, и кроется истина. Мы говорили о многом, но тему матери и сводного брата он всегда обходил стороной, как обходят что-то, по сей день болезненное, не зажившее в душе. Помню, он однажды сказал, что покупал малому что-то из одежды, и как-то так потупил взор, неприязненно скривились уголки его губ (секундный знак зарытого глубоко в душе, через мгновение силою перекрытый фальшивой безразличной улыбкой), после чего сразу уверенно добавил: «Он же брат мне всё-таки» Хоть я ничего у него и не спрашивал. Потом поднял глаза и так светло, весело посмотрел, будто только что нашёл оправдание всем самым тяжёлым грехам мира. Это был единственный раз, когда я что-то слышал о его матери и брате.
* * *
Да что уж там, у всех пацанов в семьях всё было не слава богу. Поколение безотцовщин. Мужчины, выращенные даже не матерями, а бабушками, так как матери вынуждены были работать и строить свою жизнь. Развалилась страна, и раскол прошёлся по каждому, надломив линию судьбы. Наверное, именно поэтому мы старались убежать от воспоминаний, которые, ведь, навсегда оседают в сердцах и скребут изнутри всю оставшуюся жизнь. Мы убегали от чувства неполноценности, брошенности, неприкаянности, потому что все мы были неполноценны, брошены и неприкаянны.
Разве может иначе чувствовать себя мужчина, взращённый женщинами, оставленный женщинами, окружённый женщинами? Разве может он знать, как выжить в мире мужчин? Как ведут себя мужчины? Какие решения принимают мужчины? Разве могли мы не бояться мира, который был по ту сторону материнских объятий? Мы укрывались от этого страха за плотной пеленой наркотического угара. Глушили его. Наркотики погружают в иллюзию свободы от прошлого и будущего. Момент «сейчас», в котором нет ничего, что тянет сердце в прошлое. В опьянении все равны.
Это было как-то рискованно, что ли. Чем отчаяннее был наш угар, тем смелее мы казались самим себе. Мы думали, что саморазрушение – есть акт преодоления каких-то условных границ, навязанных обществом, частью которого мы себя не чувствовали. Так приятно было осознавать себя отщепенцами. Это давало чувство превосходства над всеми теми ребятами из полных семей, кто просто жил в довольствии, не теряя и не пытаясь найти себя. Так приятно было чувствовать себя потерянными…
Наверное, каждое поколение хочет считать себя «потерянным». И мы в свою очередь точно так же упивались этой идеей. Перипетии истории проходят по сердцам молодых. Мы росли в тяжёлое время, взрослели в сытое и не знали, что ждёт нас дальше. Наши родители были молоды, когда их Родина перестала существовать, жизнь перекосилась, как дом, у которого треснул фундамент, а мы были оставлены на крышах этих домов, балансировать над неизвестностью. Наверное, всё это дерьмо нас и объединяло тогда, но с Родей меня особенно объединяло то, что мы вроде как были брошены обоими родителями, хотя они были живы и присутствовали в наших жизнях. Мы оба жили с бабушками и оба ни на кого зла не держали (или держали, но настолько глубоко, что сами его не могли в себе разглядеть). Говоря с ним, я чувствовал, что он как-то особенно меня понимает, хотя, может, Родя просто был одним из немногих, кто способен понять человека без слов?
– Родь, как думаешь, а Бог есть? – спросил я как-то раз, глядя на чёрную громаду леса, не покрывшегося ещё листвой.
– Бог? Ну не знаю. В это сложно поверить, ведь мы никогда не узнаем наверняка, но точно есть какая-то сила, управляющая всем этим пи**ецом.
– Думаешь?
– Думаю, да, а что?
– Да не знаю. Я вроде верю, а вроде и бред.
– Ну понимаешь, суть ведь как раз в Вере. Вот что главное. Вера, знаешь, она точно есть. И не является ли это доказательством? Я замечал, что верующие люди, они, блин, другие. Я имею ввиду тех, кто верит сердцем, а не тех, кто просто ходит в церковь для галочки, в прорубь ныряет для галочки, куличи жрёт для галочки. Наоборот, наверное… Все эти обычаи Вере как раз и мешают, потому как Вера – это что-то внутреннее, а обычаи – всегда внешнее.
– Дело говоришь…
– Да… И верующие – они другие совсем. Другим светом светятся. И этот свет в них, мне кажется, это и есть Бог в каком-то смысле. Бывает, человек ну вообще не грамотный, даже не считает себя верующим, но поступки все его, всё по какому-то внутреннему правилу делаются, понимаешь? Вот откуда оно у него? Не понятно. Он может жить вокруг тех, кто ворует. И не воровать. Жить с пьяницами. И не пить. Вырасти среди б*ядей, но быть чистым и любить одну. Или одного. Это просто есть в нём. И я