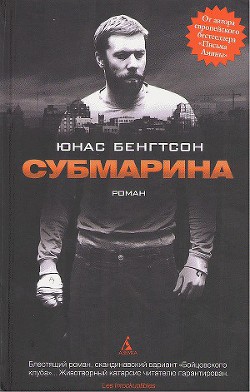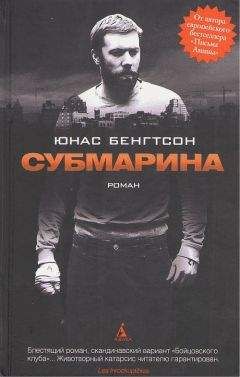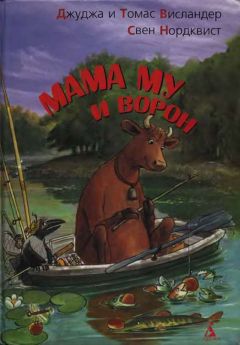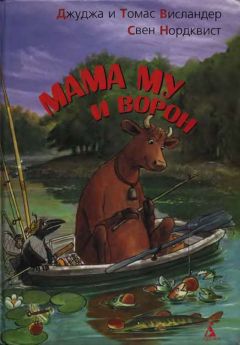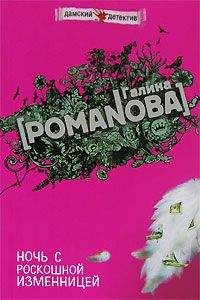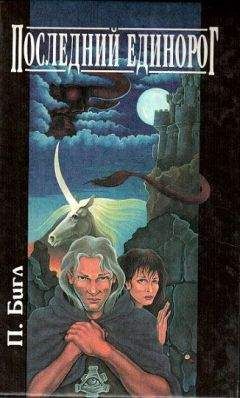Мы идем гулять, заходим в «Макдональдс». Я спрашиваю, чего он хочет. Пока мы едим всякое разное, Мартин рассказывает о клоунах и как он заметил, что это переодетые взрослые. Рассказывает о водовозе и пожарном. О том, что Сёрен плакал, соскучившись по маме. О перышках и непереваренных комочках пищи, оставленных хищными птицами в лесу, и водорослях на пляже. И о том, что они не нашли янтарь.
Я заставляю себя слушать. А так соблазнительно отключиться, пока он рассказывает. И думать о героине в холодильнике.
Идем в «Тиволи» кататься на каруселях.
Беру входные билеты, Мартину — абонемент. Оставляем рюкзак и спальник в камере хранения у входа Покупаем огромный леденец и шарик в виде зайца, летающий. Не будем экономить. Сегодня не будем. Больше не будем. Покупаю ему жареный миндаль, и пластмассовую чесалку, и брелок с Пьеро.
Делаем два круга на колесе обозрения. Отсюда виден весь город. На самом верху он берет меня под руку. На второй раз уже уверенней — да, больше всего ему нравится чертово колесо. Больше радиоуправляемых машинок и горок.
Когда мы снова спускаемся по лестнице, он говорит:
— Пап, еще раз, а? Можно, пап?
— Ты посмотри, какая очередь, солнышко… Может, лучше…
— Ну пап, ну пожалуйста…
— Ладно, но сначала папа сходит в туалет.
Идем по парку, мимо Театра пантомимы, где выложенная плитками дорожка отлого спускается к низеньким зданиям туалетов и камеры хранения.
Держу Мартина за руку. Заставляю себя идти медленно.
Во внутреннем кармане у меня есть пакетик. Немного. На разочек. Некоторые носят с собой заячью лапку, а старушки, например, кладут сто крон в проездной, просто на всякий случай. Чтобы были под рукой. А у меня — пакетик. Нет ни шприца, ни ложки, ни ватки. Но есть пакетик. Он меня согревает.
Уже на «лодочках» я чувствую, как оно нарастает. И потом, пока Мартин стреляет из воздушного ружья по шарикам, пытаясь выиграть большого розового кролика. Тело требует своего. Пот на лбу.
Мы у туалетов. Папе надо в зеленый домик. Постой здесь, солнышко.
— А можно я с тобой?
— Потом сходишь, ладно?
— Но, пап, мне тоже надо пописать, я столько кока-колы выпил…
— Ну, давай тогда ты первый, солнышко…
— А почему мы не можем…
— Солнышко мое, кому-то же надо держать шарик, правда? Чтобы на него не написать. Неприятно ведь будет, если шарик испачкается.
Он смеется. Знаю, он это себе представил.
— Давай скорее, давай, солнышко.
Он бежит внутрь. Я стою с шариком. Рука, держащая нитку, начинает дрожать. Мне не хуже, чем диабетикам. Сейчас, мне надо туда сейчас, или папе станет плохо.
Я представляю его, как он сейчас там, в туалете, аккуратный, больше не писает на ботинки, следит за тем, чтобы не промахнуться. Представляю, как он стоит и намыливает руки чуть не до локтей. Минуты превращаются в месяцы, в годы, а шарик прыгает на ниточке.
Он выходит, подбегает ко мне. Протягиваю ему шарик.
— А теперь подожди папу, хорошо? Стой тут. Никуда не уходи. «Тиволи» очень большой. И даже если тебе покажется, что папы долго нет, никуда не уходи, обещаешь?
Он кивает.
Я быстро иду к туалетам, не бегу. Спокойно, спокойно. Выбираю дальнюю от двери кабинку.
Опускаю сиденье. Дрожащими руками осторожно высыпаю порошок на белую пластмассовую крышку. Банковской карточкой размельчаю белые кристаллики, сворачиваю в трубочку сто кроновую купюру. Сначала одна ноздря, потом другая. Крышка пуста. Я прислоняюсь к стене. Сдерживаю кашель. За дверью двое мужчин говорят на сконском диалекте, булькает писсуар. Выкуриваю полсигареты и выхожу.
Тщательно мою руки. Плещу водой в лицо. Глаза красные, слезятся.
Я выхожу, Мартин спрашивает, что случилось.
— Ничего, солнышко, ничего.
— Ты вспомнил… вспомнил что-то грустное?
— Нет.
— Может, ты… может, ты маму вспомнил?
Я сажусь на корточки, держу его за руки:
— Нет, солнышко… Нет, все хорошо, малыш. У нас все хорошо.
— Но, папа…
Он смотрит на меня. Я горжусь им. Он хороший человек, думаю я. Заботится о других. Не знаю как, но он стал хорошим человеком.
Смотрю на него и улыбаюсь, хотя чувствую, что зрачки до сих пор суженные.
— Знаешь что, малыш?
— Нет.
— Знаешь что?
— Нет.
— Угадай.
Вижу работу мысли. Пауза, концентрация:
— Пойдем смотреть салют?
— Да, черт возьми, конечно, мы пойдем смотреть салют. Но только через два часа. Но знаешь что?
Он качает головой.
— Купим мороженого. А когда я говорю «мороженое», я имею в виду настоящее мороженое.
Он смеется.
— Большое?
— Нет, малыш. Очень, очень, очень большое.
Стоим в очереди за шведской семьей, они все берут сахарную вату. Когда подходит наша очередь стоять под красной маркизой, я заказываю для него «Кинг-американо». Девушке в ларьке наверняка объясняли, как его готовить. А может даже, за время своей работы здесь она его раза два уже делала. Может быть. Но не более того. Это не простое мороженое. От такого заказа у мороженщика подпрыгивает сердце. Это вам не хухры-мухры, это для мороженой индустрии как нейрохирургия, готовить такое мороженое — все равно что балансировать четырьмя тарелками на тонкой бамбуковой трости. Да и стоит оно как бифштекс в хорошем ресторане или меню из трех блюд в японском. Это мороженое с полным набором, с полным ассортиментом и в большом количестве.
Очередь позади нас растет. Наконец девушка осторожно просовывает мороженое в окошко. Мартину приходится держать его обеими руками, мы поскорее находим лавочку. С таким мороженым не походишь по парку. «Кинг-американо». Четыре суфле в шоколаде, конфеты, шоколадная крошка и столько разных шариков мороженого, сколько вообще существует. Чтобы добраться до рома и изюма, надо потратить двадцать минут.
После фейерверка мы едем домой на такси.
Мартин засыпает рядом со мной, в моей кровати. Хотя живот у него и болит от мороженого, от конфет и газировки, он улыбается.
Я смотрю в потолок.
Думаю.
Не буду много бодяжить. У меня будет хороший товар. Продавать буду тем, кто понимает толк в товаре. Черт возьми, думаю я, буду продавать небольшой горстке рокеров, тем, кто все еще сидит на игле. И они поймут, что за качеством нужно приходить ко мне, будут звонить мне. Куплю новую одежду: кожаную куртку, красивую, хорошего качества. Куплю новую, дорогую одежду. Буду ходить на вечеринки, на всякие тусовки. Продавать пиарщикам, охотникам за драконами — тем, кому нужен товар высшего класса. Не какой-то там барыга, а настоящий бизнесмен! Тот, у кого есть. Парень в баре. Парень, которого все знают. Буду ездить на такси, пить за чужой счет. Все меня любят, я тот, у кого есть. Тот, кто снабжает фотомоделей и известных саксофонистов.
37
Напротив меня сидит девушка Майка, Шарлотта. Я не был уверен, что найду их по старому адресу. Не виделись с Майком уже года два-три. И то в последнее время наши встречи были случайными: сталкивались на улице, обменивались рукопожатиями и, пообещав друг другу как-нибудь встретиться, расходились.
— Кофе готов, — говорит она и, быстро встав с дивана, выходит на кухню.
На подлокотнике дивана висят джинсы Майка. Его окурки, «Лаки Страйк», лежат в пепельнице на столике.
Майка, вообще-то, зовут не Майк, а Микаель. Но его так все называли в то время, когда мы общались. Некоторые еще звали его Зигги, ну, как «Зигги Стардаста» у Боуи, но большинство — Майком.
Мысль пришла в голову ночью. Влюбленный в героин, хранящийся на верхней полке холодильника, я лежал, уставившись в потолок, и мечтал. Я думал обо всем том, что даст мне белый порошок. О кожаных штанах, сигарах, релиз-вечеринках инди-групп. И вдруг подумал о Майке. Конечно же, Майк.
Шарлотта возвращается в гостиную, в одной руке — две кружки, в другой — кофейник. Глаза у нее карие, волосы чуть темноваты для девушки по фамилии Нильсен, она как-то рассказывала мне о прабабушке-цыганке. Я мог бы за ней приударить, она тогда многим нравилась, но все знали, что это девушка Майка. Точка. Шарлотта наливает кофе.