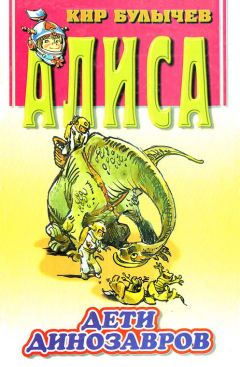Я сейчас попытаюсь объяснить это на примере. Приходилось, приходилось ведь мне искушать собственные обряды неповиновением. Сколько раз, вернувшись усталым, а чаще пьяным, я бросал рубашку в угол комнаты, скалывал занавеску английской булавкой, захлопывал книгу на том месте, где меня прихватит сон. Возможно, со временем успокаивающая и однозначно благорасположенная ко мне сила каких-то обрядов и ослабевает. Но случай с набитой трубкой особенный. Искушать ужасное трубкой…
А почему бы и нет? Кстати, когда это в последний раз было? Двадцать один год назад, за городом, в январе.
Он был студентом тогда. Вечерами подрабатывал на лыжной базе. Возможность читать между наплывами спортсменов, горячий чай, стопка заложенных за лыжи паспортов. Дубовые листья и мертвая, свернувшаяся колечком оса между рамами. Опасность набитой и не раскуренной тут же трубки уже была ему хорошо известна. В тот раз его подвели спички… То есть решение набить трубку и так ее и оставить не было самостоятельным, а вмешалась судьба. Вмешалась, может быть, с целью демонстрации приема, ну и чтобы погрозить пальчиком. Будь внимательным, ничего не забывай, окапывай свою планетку каждое утро, не то сам знаешь. И он вышел из автобуса и с завистью смотрел на мужика, который спускался к Волге, неся на плече широкие охотничьи лыжи, на каких можно ходить не только по насту набитой лыжни, но везде, везде, не проваливаясь в снегу. И, пока смотрел, ветер задул спичку. В коробке оставалась еще одна. Чиркнул. Но эта раскрошилась, она просто рассыпалась в пальцах. Серная головка отлетела в снег, и не успел он вычистить… выбросить прекрасный, с виноградным привкусом «капитанский» из своей трубки (той, что разбита бесхвостым грязным голубем, вишневая, прямая), как его – «Стой, братан!» – окликнули. «Дай-ка прикурить».
Я долго думаю, прежде чем рассказать об этом даже себе самому, потому что сам до конца кое-чего не понимаю. Я знаю людей, которые перед таким лицом испытывают настоящий панический ужас. И у них даже начинаются видения. Я показал ему мой пустой коробок, который, по-моему, служил для меня паспортом на свободу. «Уф», – сказал он. Даже не выругался, просто распахнул пальто, и оттуда пахнуло копченой ставридой и луком. Я знал человека, более чувствительного, более брезгливого, чем я. У него-то в таких обстоятельствах и начинались видения. Особенно, если на тебя наступали, шаркая ногами. Бессмысленный взгляд таракана. Две расслабленные щепоти. Фиолетовый ноготь, побывавший под пьяным молотком еще в прошлом году. Словом, когда перед ним такое пальто распахивали, мой знакомый видел не серую кофту, застегнутую на мутные глаза мертвого животного, белесые, в каких-то последних удивленных прожилках (как, уже все?), – а отвратительных насекомых, длинноногих сверчков, которые задирают опасное брюшко, вооруженное жутким копулятивным щупом, членистоногих слоников, покрытых больными, трупными, вылезшими волосами, которые обязательно остаются где-нибудь на тебе, и еще чьи-то высохшие, точно груши, мордочки, задики, пальчики, коготки, колготки с луком. Но у меня другой ум, возможно, праздный и посредственный, и поэтому видений не бывает.
Пепельные заборы, пепельная кора деревьев, и небо и земля одинаково белого цвета, так, что верхушки крыш обозначены только яблочными черенками труб. И этот коксовый подъем в гору, по которому утром восходят кривоногие отечные бабы, нелегкая судьба заставляет их забыть о коромысле, изобретенном предками (знаю, знаю, что здесь в каждом доме такое догнивает). Бабы, от вина и холода страдающие недержанием мочи. Иногда они мочатся в глубокий снег, не приседая, не обнажая зада, что не так уж и глупо на морозе, под ветками, покрытыми таким пушистым инеем, что я дышу осторожно, чтобы его не сбить. Нет, в моих близоруких глазах мир не меняется, просто он приобретает хозяина. А я-то питал себя иллюзией свободы, спонтанности… И так как спичек у меня действительно не оказалось, мы стали расходиться.
Воспоминания четкостью не отличались, и все же он был уверен, что, не раскурив трубки, то есть не сделав этого вовремя, он посмотрел в лицо ангела. И может быть, за давностью лет… И может быть, было просто совпадение. И все ведь, все ведь, кто курит трубку, так делают. Это не обряд, никакой не обряд, это только необходимая процедура, чтобы из трубки не воняло перегаром. Так почему же?.. Просто набить ее табаком. Просто оставить в ней табак. Просто подождать один час. Но можно и меньше. Просто подождать, пока трубка остынет. И не надо быть таким параноиком. Бессмысленность поступков, бесцельность жизни, отсутствие всякого плана в твоих днях, давно. Давно все это доказано. События, происходящие как бы закономерно, представляют нам совпадения, учащаемые теснотой и обусловленные требованием свободы, равенства и братства. Вроде того, как на поверхности маленькой лужи все круги от всех дождевых капель должны непременно встретиться. Он укладывал табак в горячую трубку. Закончил. Кое-как затолкал ее в пакетик с табаком, спрятал в правом нагрудном кармане, так как из левого, рваного, пакетик должен, скорее всего, выкатиться. Теперь – время пошло.
Он достал из кармана брюк свои ручные часы, никогда не носимые на руке, осветил их зажигалкой. Часы показывали семь минут девятого, чего, судя по наступившей темноте, никак не могло быть. Фокус номер один. Мои часы встали. Правда, встали-то они давно, когда я вышел из дома. Я вышел в восемь (выходя, забыл зажигалку, вернулся, посмотрел на стенные часы, было восемь).
Выбрав такое место, где ветки расступались и можно было различить ртутный отлив стрелок на матовом циферблате, он пустился в сложение. Раз и навсегда заведенный порядок, такой обычно устанавливается в конце жизни как ее подведенный итог, и никаких отклонений от выбранного когда-то маршрута, давно и точно измеренные в шагах (и переведенные в метры) отрезки пути – все это упрощало его подсчеты. Десять минут до остановки… но там, в распивочной, все получилось не сразу (сто пятьдесят «Посольской» и крабовая палочка): впереди, у стойки, скопилось что-то непривычно бойкое, равнодушное к его унылому нетерпению. Эти двое слишком долго выбирали марку пива, никак не могли остановиться на водке, просто разрывались между бутербродами с салом и спавшимися пирожками. У одного, квадратнолицего, с маленьким острым носом, были волосы в хвостик, длинные пряди вдоль щек и гитара в темном чехле. У другого, в каком-то банальном соответствии с придурковатостью открытого лица, гитара была обнаженной и даже без лямки, и он, как дубину, нес ее за гриф и плевался веселыми словами, с размаху вбивая их в первого стриженной ежиком головой. И когда они со всем своим добром отошли к высоким столикам, и я протянул мои десятки, пропитанные потом нетерпения, длинноволосый вернулся, прямо в ухо крикнул мне: «Извините!», опять оттер меня от стойки и потребовал себе еще стакан лимонада. Я долго не мог вспомнить, почему эти двое мне известны, хотя говорят они между собой, как будто только что познакомились. Но, когда «Посольская» обожгла мне пищевод, вызывая легкую изжогу, которая пройдет, едва я закушу крабовой палочкой, я понял, кто они, и вспомнил, что много раз видел каждого. И тот, что стыдился своей гитары, и тот, что выставлял ее напоказ, оба пели песни в трамваях. Интересно, что оба пели одну и ту же песню, говорили пассажирам одни и те же слова, когда собирали подачку… Не думаю, впрочем, что эта задержка длилась больше пяти минут. Теперь обратный путь. И он перевел минутную стрелку еще на два видимых деления. От дома к пруду, от пруда к березовой аллее, пока не стемнело и не зарядил дождь… круги и полукруги… Он переводил, прибавлял. Набралось часа два. Стрелка запущенных часов показывала десять минут одиннадцатого. Вернувшись домой, он обнаружил, что почти не ошибся.
Трубка в кармане остывала медленно. Время тоже вдруг как будто замедлило течение. Ровный дождь усилился, ветер давал о себе знать только поскрипыванием верхушек, а внизу, на дорожке, загороженной склоном, становилось как будто все тише и тише. Ему все еще было смешно: двадцать лет соблюдать одно глупое правило. И ведь ничего такого, конечно, не может случиться с ним оттого, что он набил трубку новым табаком и, горячую, оставил ее пропитываться медовым… хороший голландский табак. Хорошая вересковая трубка. У него было чувство полной защищенности: от ветра – за склоном, от неприятной встречи – из-за погоды, которую многие назвали бы плохой. Трубка во внутреннем кармане грела грудь горячей еще головкой. Все эти вещи: дерево, тело, табачный лист – не спешат обмениваться теплом. А, кстати, неприятная встреча уже была. Первая – там, на остановке. Двое этих менестрелей-побирушек, с пэтэушной ушлостью коверкавших Гребня по трамваям. И с такой хищностью цапавших пирожки, как будто я, опрокинувший мой стаканчик на пути к выходу и сунувший его в переполненную корзину для бумаг у них под ногами, мог их объесть. Вторая – здесь, когда я нырнул под шлагбаум вдоль серебристой «Нивы-Шевроле», из пасти которой вылезли густобровые, опаленные солнцем лица двух механиков, и они посмотрели на мою трубку так, будто я держал во рту нечто незаконное или непристойное. Дорожка, темнота, дождь – все это спасало и от подобных встреч. Вот только трубка что-то медленно остывала. Прошло десять минут, пятнадцать. Она все еще была теплой, и курить ее все еще было нельзя. Не то чтобы нервы натянуты, но близкий, пронзительный крик заставил его вздрогнуть.