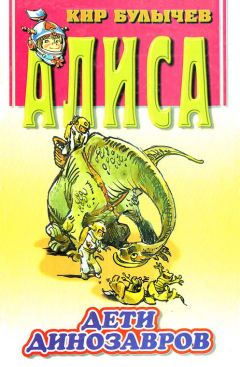А когда этот крик повторился, он даже потрогал еще раз свою трубку, запустив руку в карман, и прямо на него вышел сутулый карлик в бледно-голубой курточке с капюшоном. Продолжая кричать что-то невнятное, карлик делал широкие шаги на прямых ножках, размахивал от плеча прямыми руками, пародируя строевой шаг, которому, вероятно, научился у почетного караула или у робота-убийцы, при этом (или показалось?) он почти не двигался. На страшное, просто неприятное впечатление: на месте его лица капюшон втягивался, и там, где я ожидал найти объяснительное лицо ребенка, зияла и орала гигантская присоска. Позади карлика плелась флегматичная черная собачка, никак не отзывавшаяся на его буйство. Я подумал, что, оставаясь в тишине, в темноте, под дождем, сейчас напугаю всех троих, так как заметил, что позади собачки еще кто-то идет, и головная косынка, черная, в белый горох, никак не выдает его половой принадлежности. Я сделал шаг в сторону, чтобы уступить им дорогу. И в темноте, которая меня от них скрывала, наступил на разбитую бутылку. Стекло заскрежетало, крошась под ногой, все трое даже не сбавили шагу. Они проследовали мимо меня, как призраки, только собачка сделала глотательный звук, похожий на рычание. Последний оказался женщиной (мать? сестра?).
Так вот они, все эти мрачные ангелы, которые должны появиться, как только ты откажешь себе в удовольствии раскурить набитую трубку! И как он развеселился! Прошло минут двадцать. Трубка была все еще теплой. Он сделал полукруг, медленно, как только мог. Говоря по правде, он был мокрым до нитки, но ему все еще не хотелось домой. И он даже подумал, что сейчас выберется отсюда, обойдет весь парк, найдет единственный фонарь, чтобы полюбоваться сеющим дождем. С одним из моих предрассудков я теперь могу распрощаться. И повторный крик его только насмешил: это карлик, он возвращается. Но призраки и слуги призраков больше не страшны. Карлик орал, карлик размахивал руками и ногами, у карлика не гнулись колени и локти. Не насторожило и то, что карлик был один. Может быть, подумал я, в силу какой-нибудь психической болезни или военизированного воспитания (не знаю, есть ли разница), этому ребенку позволяется даже большее. И не только иметь вместо лица присоску, сделанную из капюшона.
Возможно, однако, что эта присоска кое-что видела. Поравнявшись со мной, орущий и марширующий уродец остановился. Только сейчас он выделил меня из темноты, остановился, опустил руки. Замолк. Не бойся, сказал я. Карлик не двигался. Ну проходи же, не бойся – карлик будто еще чего-то ждал. Ничего я тебе не сделаю, – я сказал это грубо. Кажется, мою резкость он понял, успокоился, но все-таки, кое-чего ему не хватало. Чего же? Уж не казалось ли ему, что я стою у него на дороге?
И все мои уверения только ловушка, и если он двинется, то я схвачу его руками, как позавчерашнего чертика, который особенно задержался у меня на столе? Я ведь и этого не сделаю. В доказательство пришлось отойти под притихший клен, туда, где оставался участок сухой дорожки, и только тогда карлик проскочил мимо меня трусливой рысцой, согнувшись, как будто привык, проходя мимо взрослых, получать по затылку. И тогда я достал мою трубку и раскурил ее, и, вздыхая о горькой судьбе маленьких ангелов, двинулся домой. Огромный клен рухнул на тонкие деревца, росшие рядом, вцепился в них, как вилами, всеми тремя стволами, на которые высоко расходился, и при этом обломок его сорвался и закачался в воздухе, как огромная дубина, молотя пустое место, с которого я только что сошел.
Это вот корыто из оцинкованной жести больше не звучит, его дно проржавело, и зимой его продавило снегом. Я положил его сюда, чтобы в доме слышался спасительный грохот, и больше не убирал из-под дуба у ограды десять лет. А если быть точным – одиннадцать.
Был сентябрь, и приближался к развязке роман… Да нет, не роман, не знаю, как назвать, – с одной маленькой косоглазой учительницей, которая все чаще стала выскальзывать из постели и засыпала в кресле, как кошка, свернувшись калачиком. Я становился теплее и предупредительней, перестал давать ей кошачьи прозвища, на какие она прежде охотно шла ко мне, улыбаясь и выгибая ребристую спинку. Но случалось, что срывался на нее, не виноватую ни в чем, как это было на рынке, в холодный дождь, смывающий раздавленные виноградины и капустные листья, когда один из моих любимых замшевых ботинок потерял подошву; я зачем-то хотел подобрать ее из лужи и, наверное, был смешон, мокрый, фыркающий, на одной ноге, и мне казалось, что все теперь обернется против меня, и одной подошвой не отделаешься… и, когда маленькая рука потянулась к булькающей луже, чтобы помочь мне достать оттуда жуткую плоскую утопленницу, и я услышал веселое: «Но зачем тебе?..» – и ответил… Нет, это не вызвало в ней обиды, наоборот, мы легли вместе, только больше отчуждения, больше сигарет, она курила их молча, сидя в постели, прикрыв от меня рукой маленькие мягкие груди. Потом она становилась нежной и требовала, чтобы я поступал с ней жестоко, чтобы я не давал ей распускаться и проявлять несносный нрав, чтобы я переспал с кем-нибудь из ее подруг и наконец оставил ее в покое.
Потом она позволяла себя ласкать, просила ласк, говорила, что замерзает, что любит меня, что хочет «писить».
И засыпала не больше, чем на час, с тем чтобы проснуться от приступа кашля, так что я успокаивал ее согретым молоком и заставлял ее одеться. Август был холодным, говорили о ранней зиме.
На рассвете, в моей фланелевой рубашке, доходившей ей до колен, она шла умываться в сад. Я еще лежал и слушал, как гремит жестяной рукомойник и как лапкой кузнечика (верней уж, кобылки) скребется во рту зубная щетка. Утро не принадлежало нам обоим, и день мы проживали врозь. Ей нужно было в школу, куда мне запрещалось даже звонить.
Чтобы выглядеть взрослее своих учеников, она укладывала длинные светло-каштановые волосы японской копной, а чтобы стать выше, становилась на каблуки. Ни то ни другое не делало ее строже или старше: передо мной был одиннадцатилетний ребенок, стащивший туфли у замужней сестры и выпивший стопку водки, чтобы пойти к взрослым на танцы. Злой, не выспавшийся. Тяжелая голова раскачивалась и валилась с боку на бок. Мы молча шли через лес к городской окраине. Отвергая мою поддержку, она оступалась и подворачивала ноги, ругала красные туфли на высоких каблуках, к которым никак не могла привыкнуть. За время нашей тяжелой связи она успела связать себе короткую зеленую безрукавку, которую, как и все домашние вещи (штопор, пепельницу, будильник, мой калькулятор) называла штучкой. Помню эти вечерние вязания, неумелые, она держала спицы на вытянутых руках, плавно поворачивала их и всаживала навстречу друг другу, и первые дни мне было страшно, что она проткнет себе ладонь. Помню на ней эту узкую зеленую штучку, и как она шла, обхватив себя руками, ругаясь и подворачивая ноги на корнях, пересекающих тропинку.
Она возвращалась после двенадцати. Зная, где прячется ключ (в дупле, по преданию, жили осы, и бумажный сот выглядывал оттуда угрожающим краем), она заходила в дом и тут же засыпала в кресле, свернувшись в нем калачиком. Так, не меняя положения, она спала до тех пор, пока не начинало темнеть. Проснувшись, требовала прогулок, отказывалась есть что-либо, кроме капусты с черным перцем, и мы допоздна куда-нибудь уходили. Я любил эти прогулки, во время которых чувствовалось, что она не может без моего присутствия обойтись, и она сознавалась, что любит их, потому что в темноте ей все время кто-то нужен.
Ее все пугало. Ее интересовали самые пугающие места. Ни у кого я не видел таких трагических и покорных глаз, и никогда позже не встречал такого глубокого и тяжелого восторга перед темной природой.
Казалось, она была подавлена и смущена ночным поведением вещей и пейзажей, нечаянным плеском по щеке невидимой ветки, резким писком зверька под ногой, клубящимися массами леса, тусклым дном полян, предостерегающими позами стелющихся кустов, шагами и кашлем старика и черепашьим видом, который придавал ему легкий плоский рюкзак. Перед всем этим моя маленькая Аля испытывала капризный страх, такой же, как и перед десятизначными монстрами чисел в смотровой щели моего калькулятора, а все же просила меня, чтобы мы хоть ненадолго свернули в лес, говоря: «Смотри, как там». И если какой-нибудь слабый свет или отблеск позволял наблюдать за ней (расходились ли тучи, освобождая луну, раздавался ли над головой лес, или издали обливали колею фары догоняющего автомобиля), то оказывалось, что она еще и меня изучает, изучает с не меньшим ужасом и торжеством, чем невероятный и опасный пейзаж, смотрит на меня в этой темноте так, словно хочет увидеть или испытать что-то такое, чего не увидишь при дневном свете. И тогда я начинал верить, что все это не каприз. И сначала думал, что это она вызывает во мне мужчину, и не заметил искренности сопротивления однажды ночью, и тут же, пока наша близость не вошла в привычку, понял, что не это ей от меня нужно.