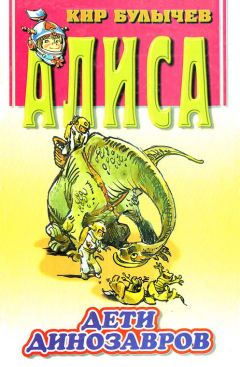Во время таких прогулок мы подолгу молчали, хотя я любил слушать, как она говорит, моя маленькая Аля, и, поддаваясь неутолимой нежности, стал пропевать ударные слоги с ее тоскливой интонацией и расставлять ее детские паузы перед последним словом фразы и так же, спохватываясь, произносить его на звонком, смеющемся выдохе, глупея, не отдавая себе отчета в том, как я могу быть противен, когда сюсюкаю. Иногда мне все же удавалось узнать кое-что о ее прошлом. Она считала себя сиротой, ей было шесть лет, когда пропала мать, и обстоятельства ее исчезновения до сих пор остались не выясненными. Отца она не помнила или не вспоминала. Ее воспитывала тетка, которая до сих пор имела над ней непонятную власть. Временами Аля выпускала, как пар: «Нет, сегодня нет… Тетя просит, чтобы я у нее пожила». Пожалуй, что больше ничего о себе она не рассказывала. Только однажды вечером, когда мы шли по затихшему переулку мимо крошащихся кирпичом домов и резиновых игрушек, выставленных в окнах на ватный снежок, она показала мне двор, в котором росла, грязный тупик, покрытый асфальтом и заставленный мусорными баками, задыхавшимися от гнилых овощей, так что я в шутку удивился, как можно было тут вырасти? И причинил ей боль. Она страдала из-за своего маленького роста, называла себя бездарной, и я, увидев ее так глубоко погруженной в себя, еле успел отбросить у нее из-под ног арбузную корку… В этом сером тупике мы просидели до глубокой ночи, на скамейке, под высохшим деревом, которое она помнила саженцем и которое любила раскачивать, вцепившись в него ручонками, когда ей было года три. Там, на этой скамейке, мы занялись любовью, и в самый разгар отчаянных приготовлений, когда мы обирали друг с друга холод, пуговицы, вспышки и волоски, скамейку залило желтым светом из кухонного окна, до которого она могла дотянуться ногой, и дородный, лоснящийся, в потной майке вуайерист постучал в стекло перстом, поставил на газ темно-зеленый чайник, вышел из кухни и канул в разветвленном коридоре полуподвала, разом отняв у нас и кухню, и скамейку, и сухое дерево с облетевшей корой. У нее в этих домах были и друзья. С ревнивой настороженностью, а не редко и со скандалом, я уводил ее из компании, где мне все давали понять, что я чужой, совсем чужой, и вспоминали вслух, какой душой здесь бывал ее музыкальный муж, перепевший всего Галича и Клячкина и сам написавший несколько бойких песен, а между тем любивший заночевать на газончике под окном и утром явиться с букетом китайских ромашек, сорванных на этом же газончике. Там, в этих школьных компаниях, все для меня становилось до отвращения мелким и мельтешащим; назойливо порхали пухлые Нонетки и сальные Воветки, и кто-то, прежде чем уткнуться в томик Тютчева, раскрытый наугад, брызгал нерасшифрованными колкостями, как разбитый бокал, чьи осколки тонут в ковровом ворсе. И был один журналист, который что-то втолковывал отяжелевшей от портвейна Прониной, кажется о Великом инквизиторе, который и сам изучал меня довольно inquisitively. И он, когда Аля вышла, громко сказал: «Ты или дурак, или подлец. Что это за взгляды на ноги Алины, на зад Алины?» Чувствовалось, что когда-то здесь она была в центре всех этих брызг и зигзагов, но теперь ей не хватало воли, возможно, из-за меня. Уводил я ее, послушную, готовую утереть носовым платочком мое разбитое лицо, и все же видно было, как она хочет остаться там.
Ввести ее в мою среду, тоже не просто устроенную, тоже ревнивую, тоже веселую, бликующую очками, каламбурами, пижонскими значками на отворотах пижонских пиджаков, и собранно сосредоточенную на поэзии и преферансе, я не мог, потому что эти краснодипломники только что разъехались по распределению и еще не прислали мне ни одного письма.
Все чаще она уходила со мной, наконец, добрый месяц жила у меня и однажды нагрубила тете, которая окликнула нас из очереди за утками, только что возвратившимися в Куйбышев с московской олимпиады. В очереди вскипала ссора; чтобы разрядить обстановку, я протолкался к весам и закричал прямо в ухо, торчащее из-под парусиновой кепки с козырьком: «Что вы говорите? Я сам видел: эта женщина стояла вот за этой уткой!» После этого тетя всегда принимала мою сторону и как-то сводила меня в театр.
Голос Алиной тети, позвонившей однажды вечером, бодро сказал что-то о лишнем билете и что Али в городе больше нет. Вышла замуж, уехала на Сахалин. Тетя жила в старинном доме, отделанном снаружи кремовой плиткой, с высокими потолками и высокими окнами с круглым вырезом наверху. В большом парадном на меня напала крыса, которая «своих не трогает». В норе под лестницей тетя напоила меня чаем и долго, так как до начала спектакля оставался час, показывала мне фотографии, уложенные в жестянку из-под халвы. Среди них было много снимков тети самой, с нежным носиком, и ни одного Алиного, чей носик, если уж быть беспристрастным, в размерах был меньше, но нежностью уступал. Я опрокинул чашку, и тогда в тетиной руке появилась ситцевая тряпочка с незабудками, смятыми, отжатыми и снова расправленными на батарее, чтобы я узнал рисунок того самого платья с тонкими лямками, которое в наше лето носила Алина.
Если же она просила меня что-нибудь рассказать о себе, я, не задумываясь, привирал: прошлое не казалось мне слишком значительным, я что-то не мог припомнить о себе ничего интересного, даже смешного, и наконец выдумывал историю, в которой я был героем, что-нибудь вроде той, с очередью за утками. Она этим историям верила, и это подстегивало меня сочинять новые, до тех пор, пока моя фантазия не то чтобы выдохлась, а стала потихоньку дозировать вымысел, и вот, когда изощрилась до гомеопатических доз, я рассказал ей совсем короткую и плоскую историю, которой сам не помнил, но которую любила вспоминать моя мать.
На застекленной веранде, выходившей в заросли глянцевых вишен, за вешалкой с порыжелыми дождевиками и пляжными шляпами прошлого, которые доживали свой век в коротких лучах соломки, висело корыто. Со временем и оно приобрело покровительственную крысиную окраску дождевиков. Когда я родился, то мне довольно долго пришлось в нем спать; железная кровать с веревочными сетками, в которой я себя и запомнил, появилась годом позже. Теперь корыто гудело утром, когда Аля проходила мимо на своих учительских каблуках, при стуке которых обычно стихал ожидающий класс. Я показал ей это корыто, сняв его с гвоздя, вбитого в сруб. Аля тут же уселась в него – и вся в нем уместилась, поджав колени к подбородку. Потом она сказала мне, что хочет вымыться в нем.
Ее бледная кожа совсем не знала солнца. Если я и мог увести ее купаться, то только ночью: взрослые купальники такого размера не продаются. Мне-то нравилось плавать в теплой и черной воде, и она тоже любила заплывать далеко, хотя на это у нее едва хватало сил, да она и не умела их рассчитывать. Плавала как-то очень неловко, плечи высоко показывались над водой, заметно, шумно и судорожно она работала руками и ногами, так плавают щенки, когда не по своей воле оказываются в воде. Говорила мне: «Ты не подплывай близко, меня всю будет видно». Я все же боялся, что силы могут ее оставить, и плавал где-нибудь рядом до тех пор, пока течение не сносило нас к огням лодочной станции, вот тогда, наткнувшись руками на колючий трос и осторожно перебирая его руками, она звала меня: «Мне страшно!» А течение снова приносило ее на трос, и она снова колола об него пальцы, и уже умоляла, чтобы я подплыл близко, совсем близко. Внезапно ее пугала болотная глубина реки, – уже зацветшая вода мерцала мутью в прожекторах, темный шкипер проходил по мосткам, и его индюки, которых он держал в сарае на берегу, чуть что, ночью кричали, – но больше всего она боялась камней на дне, скользких от тины. Эти камни казались ей животными, и когда мы могли достать ногами дно, я поддерживал ее, брал на руки (иначе, как в воде, она не позволяла носить себя на руках и могла за это обидеться), шел в воде вверх по течению. Она совсем ничего не весила. Я шел так долго вдоль берега, иногда целовал ее в лоб и Бога молил, чтобы она не заметила бесшумных призраков, которые молча, цепочкой, шли в сторону Лысой горы, раскачиваясь и наступая на камни бесшумными кедами, и других, которые уже успели встать на якорь в своих резиновых лодках и тихонько звонили колокольчиками донок и зажигали фонарики, чтобы сменить наживку. Буксирное плавание доставляло ей удовольствие, и она улыбалась – ее глаза были закрыты, она позволяла мне так же на руках вынести себя на берег по тинистым наносам полосы отлива, так как в первый же раз распорола там пятку битой банкой, позволяла поставить себя на плоский камень, возле которого мы раздевались, и позволяла закутать себя в полотенце, и глаза ее все так же были закрыты, и холодом тянуло из оврага. И она тянулась ко мне улыбкой, и я целовал эту улыбку, прижимаясь к сухому холодному полотенцу, и она открывала глаза и говорила: «Как я по тебе соскучилась!»