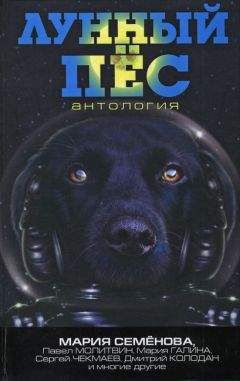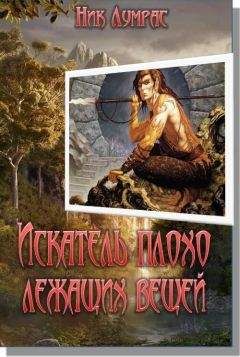Стэн, расположившийся на полу, поднимает вверх руку с растопыренными пальцами. Типа “дай пять”.
– Барри не пил. Он вообще был положительный, много работал. Вкалывал от зари до зари, но счастливее от этого не становился. Он начинал с бедности, как и я. Но он был упорный, брался за любую работу… помощником официанта, младшим посудомойщиком… копил деньги на колледж. У него два диплома. Один – инженера-электрика, второй – что-то там по компьютерам. Кажется, по компьютерам. Но я точно не помню. Я не вникал, мне оно как-то без надобности. Потом он открыл свое дело, тоже что-то с компьютерами. Я даже не знаю, чем он там занимался. Мне опять же без надобности. Он как-то попробовал мне объяснить, но я не особенно слушал. Но дело пошло. Он очень даже неплохо поднялся. Не настолько, конечно, чтобы его рожу печатали на обложках журналов. По крайней мере таких журналов, которые стоит читать. Но денежки у него появились. А вот семью братец Барри так и не создал. Ни жены, ни детей. То ли от жадности, то ли был слишком занят своими делами, то ли ему это было вообще не надо… Да мне, собственно, все равно. Я к тому говорю, что у Барри не было никого из родных и близких. Никого, кроме меня.
И сама мысль о том, что если вдруг что случится, все его деньги достанутся мне, приводила его в тихий ужас. Потому что, хотя он ни капельки не сомневался, что мое беспробудное пьянство очень быстро загонит меня в могилу, и я отброшу копыта первым, у него все равно появлялись такие мысли… ну, что вдруг самолет разобьется… или что он отравится несвежими устрицами… одна трагическая случайность – и все деньги, нажитые тяжким трудом, достанутся старому алкашу, то есть мне. Он все грозился, что отпишет все выдрам. “Все мои деньги останутся выдрам, – так он мне говорил. Очень громко и очень часто. – Все до последнего цента”. Он собирался построить выдрарий… или как оно там называется… в общем, типа приюта для диких выдр с трудной судьбой. Он мне часто об этом рассказывал, хотя он меня ненавидел. Я бы вообще прекратил с ним общаться, но он сам мне звонил. Постоянно. В основном для того, чтобы рассказывать мне об этих страдалицах-выдрах. Он все ждал, когда я психану. Ну, по поводу выдр. Неужели старого алкаша не волнует судьба бедных зверюшек?! А мне было насрать. Я был доволен и счастлив, и меня вовсе не волновали какие-то драные выдры. А потом братец Барри подхватил какого-то редкого кишечного паразита. Видимо, от своих выдр. Про него даже писали статьи в медицинских журналах. Это была прямо сенсация! А потом Барри умер. Я даже погоревал… все-таки семья есть семья… и мне в общем-то нравилось, когда он звонил и рассказывал о выдрах, которые прошли трудную школу жизни на своих больных лапах. И тут выясняется, что с завещанием Барри есть одна небольшая проблема. Проблема в том, что все свои деньги брат заработал сам. И трясся над ними – страшное дело. Как я уже говорил, он начинал с глухой бедности и не любил тратить деньги. Он бы зубами достал десять центов из кучи говна. Я так думаю, он до конца тырил туалетную бумагу из гостиничных номеров. В общем выдрам хрен что досталось – зверики обломились, а я получил этот бар, где я сам себе постоянный клиент. Но я не хочу, чтобы ты думал, что вся эта радость досталась мне исключительно благодаря деньгам. Вот спроси меня, что бы я делал, если бы не получил эти деньги, а брат осчастливил бы пару десятков несчастных выдр.
– И что бы ты делал?
– Я бы все равно пил. Просто уже не такими темпами.
Стэн бьется в конвульсиях от смеха, хотя я уверен, что он слышал эту историю уже тысячу раз. Я встаю и иду к выходу.
– Эй, все равно ты не будешь жить вечно. Хлопни бурбона, и пусть цирроз печени знает, кто из вас главный.
Я все думаю, как бы мне убить время, пока я мертвый. Может быть, стоит поехать в церковь или еще куда-нибудь, где меня знают? Пребывание в двух местах одновременно – это хороший фокус. С другой стороны, я могу все испортить. Типа, он не мог в это время быть мертвым, потому что как раз в это время его видели в “Пабликсе”, причем даже есть запись с камер наблюдения.
Иду в парк, сажусь на скамейку. Сижу, греюсь на солнышке. Вот она, самая главная радость жизни: очень трудно все время тревожиться и оставаться несчастным. У меня звонит мобильный. Это Дидсбери.
– Все, дружище, ты мертв, как бревно. Присоединился к бездыханному, неподвижному большинству. Готов лечь в землю и спать вечным сном.
Это так странно, когда получаешь, что хочешь. Очень непривычное ощущение. После первого приступа радости появляются сомнения: неужели действительно все получилось? А потом радость тускнеет и блекнет, и ты понимаешь, что ждал чего-то другого и думал, что все будет намного прекраснее и удивительнее.
Мы с Дидсбери убираем Дона (который прекрасно справился со своими обязанностями по временному замещению меня) обратно в шкафчик и возвращаем в дом скорби. Под аккомпанемент моего отчаянного кряхтения. Потом я жду еще пару часов и инсценирую воскрешение. Звоню доктору Гриру, прошу приехать. Чувствую себя неуютно. Мне, правда, очень неловко.
– Прошу прощения за беспокойство, но, кажется, я не умер.
– Это мы еще посмотрим.
Я сижу в шортах с эмблемой “Майами Долфинс” (не в тех, которые были на Доне, а в других, точно таких же) и с голой грудью, так чтобы была видна татуировка.
– Как-то вы изменились… Совсем на себя не похожи.
Мне кажется, или в его взгляде действительно сквозит подозрение?
– Как вы себя чувствуете?
– Вроде бы хорошо, только немного устал. – Мне действительно неудобно, что я трачу время хорошего человека и замечательного врача.
– Вы что-нибудь помните?
– Нет. Вчера я лег спать, а сейчас вот проснулся.
– Вот это я называю “крепкий, здоровый сон”. Кстати, вы помните, что я вам говорил? Вам надо сбрасывать вес. Я еще ни разу так не ошибался, но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Вы уверены, что вам не подсыпали порошка зомби?
Какой смысл делать что-то необыкновенное, если об этом никто не знает? Разумеется, есть ситуации, когда выдающееся деяние – это само по себе награда. Например, переспать с сотней самых красивых женщин на свете за тридцать дней. Хотя большинство из нас все-таки предпочли бы, чтобы об этом стало известно широкой общественности. А если вы в совершенстве владеете дюжиной языков? Или можете задержать дыхание и вообще не дышать девять минут? Конечно, вам хочется, чтобы другие об этом узнали, и чтобы они оценили ваше усердие и талант.
Вирджиния сидит с выражением не нарочитого презрения на лице. Я напоминаю себе, что она презирает весь мир, и не принимаю ее хмурый вид исключительно на свой счет. Ей явно не хочется тратить время на беседу с патологическим неудачником, который даже не смог нормально умереть. И ее можно понять!
– Я смотрю, вокруг вашей церкви творится много чего интересного. Значит, вы умерли?
– Так мне сказали.
– И надолго?
– Никто точно не знает. Наверное, где-то на сутки.
– Хорошо, мистер Корбетт. Расскажите о своих впечатлениях.
Разумеется, я заранее продумал ответ.
– Я даже не знаю… Это трудно описать словами. Когда пытаешься описать неземной опыт земными средствами выражения… с тем же успехом можно пытаться… – Я умолкаю на пару секунд, как будто подыскивая сравнение, хотя я давно все придумал и теперь просто держу паузу. -… Превратить майонез в музыку. То, что я испытал… его не уместишь в простые слова.
– Вы видели свет?
– Нет. Понимаете, свет – это физическое явление. Нечто из материального мира. Это было что-то похожее на свет, но не свет.
– Гм. А еще что-нибудь можете рассказать?
– Ну… – Я снова делаю паузу, чтобы подчеркнуть важность момента. Сейчас будет раздача бесплатной надежды.
Надежда – единственный наркотик, который приносит лишь благо. – Как я уже говорил, этот опыт нельзя описать в терминах, обозначающих физические явления, но я почувствовал. .. мир и покой.
– А что вас вернуло?
– Я сам вернулся. Решил, что моя работа еще не закончена.
– Гм. А в чем заключается эта работа?
– Мне нужно помочь многим людям и донести до них свое учение.
– Гм. А что за учение?
– Не ждите награды.
Почему-то теперь это звучит, как несусветная глупость. Моя блестящая мудрость дохнет прямо на лету, как насекомое, обрызганное репеллентом. Вирджиния что-то строчит у себя в блокноте и больше не задает никаких вопросов. Фотограф снимает меня для газеты и зевает с риском вывихнуть челюсть. Он делает всего один снимок, после чего сразу уходит.
Я интересуюсь:
– И когда ждать статью?
– Скоро будет. Но я тут ничего не решаю.
Иерофант не впал в кому, но он не шевелится и вообще не разговаривает. Его состояние нагоняет на докторов скуку. Докторам нравится создавать иллюзию бурной деятельности: выносить безошибочные суждения, давать рекомендации и выписывать рецепты, – но на свете не существует лекарства, которое борется с капитуляцией, когда человек уже все для себя решил и рассудил, что игра больше не стоит свеч. К тому же врачи не любят возиться с пациентами в возрасте: все равно старость уже не лечится. Когда тебе нет тридцати и ты приходишь к врачу с жалобами на неважное самочувствие – то есть, на что-то не столь очевидное, как сломанная нога, – тебе говорят, что это вирус: “Лежите в постели, пейте лекарство”. А после сорока все валят на возраст. (”А чего вы хотели? Вы уже вышли на финишную прямую”.)