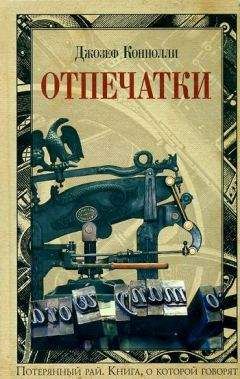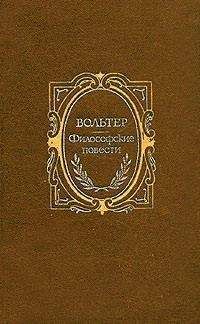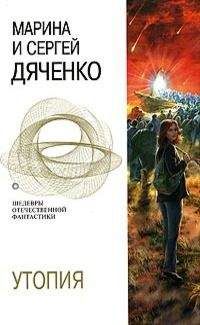Я распластался по стене, считая, что меня никто не видит, старался по кусочкам собрать происходящее (насколько все плохо), прежде чем решусь войти. Но меня увидели — вероятно, я выдал себя, потому что Джуди резко вскрикнула и бросилась ко мне очертя голову — бутылка, помнится мне, полетела вслед за ней и вдребезги разбилась на полу, красные ручейки побежали к моим ногам, а я только и мог стоять, пока Джуди цеплялась за меня крепко, до боли, и шеей чувствовать каждый мучительный спазм ее рыданий — а рот ее был мокрым и полуоткрытым, и она вовсе потеряла контроль над собой. Тупо гладя ее по волосам, я осмелился бросить взгляд ей за плечо, и сцена, представшая моему взору, боюсь, никогда не изгладится из памяти.
Джон, его я увидел первым. Когда я наконец смог сфокусировать на чем-то взгляд, это оказался Джон. И я был благодарен. Я думаю, мне требовалось сузить поле зрения — ибо вся картина, вид моих друзей, всей моей семьи, в таком ужасном состоянии — столь многие лица блестели от слез, сверкали в роскошном охряном свете свечей и мерцании серебра (иней искрящихся блесток на елке, блеск изысканных бумажных колпаков, многие из которых все еще были гротескно сдвинуты набок на столь многих головах)… ну… меня обожгла новая и невероятно жестокая вспышка боли (я чуть не рухнул на месте). Я продолжал ее обнимать — Джуди, да: наверное, чтобы не упасть. Но, как я уже сказал, первым я увидел Джона — он сидел, сгорбившись, в своем кресле, точно огромный поверженный медведь, голова его болталась низко, руки повисли: он выглядел сейчас таким невероятно старым — никогда раньше Джон таким старым не казался. «Боже, о боже, о боже, боже… — тихо повторял он. Фрэнки сидела на полу, обняв Джона за талию и зарывшись в него лицом, защищенная самой его тяжестью. — Боже, о боже, о боже, боже, боже…» — продолжал бормотать он, а тяжелая голова его в смятении болталась из стороны в сторону, сияние свечей подчеркивало глубокие черные впадины на обвисших щеках, а глаза просто потерялись в бесконечных складках усталой плоти.
Мэри-Энн. Маленькая Мэри-Энн. Она сидела на коленях у матери и смотрела ей в глаза почти с упреком (ее же собственные глаза были сухи и не мигали). Дороти смотрела в пространство — но не на Кимми, которая сидела передней, вяло теребя неподвижную руку Дороти. «Дерьмо… — с отвращением выплюнула Кимми (немногие взгляды обратились на нее: немногие). — Дерьмо, вот дерьмо, вот дерьмо!..» Но Дороти не взглянула на нее: в ее лице я увидел лишь расходящиеся круги страха, который, с дрожью признал я, теперь стремительно распространялся и во мне. На лице Уны был написан невыразимый ужас иной природы — она была почти буквально белой, несмотря на мягкое освещение, и источала аромат вины. Невольно, я в этом уверен, она встретила мой взгляд и содрогнулась почти конвульсивно. Пошарила сбоку — пытаясь, быть может, схватить руку Майка — но тот вцепился в край стола в нескольких дюймах от ее пальцев, и дальше искать она не стала. Сам Майк свернулся в комочек — сейчас он крепко тер кулаками глаза, выжимая из них бесконечные слезы, детские слезы, стекавшие на мягкие и мокрые изломы его перекошенного рта. Тедди серьезно смотрел, быть может, и не на меня вовсе, а на Джуди, которая по-прежнему крепко обнимала меня за шею: думаю, он хотел, чтобы она вернулась на свое место подле него: он нуждался в ней, да, и кто его упрекнет? Он, Тедди, сунул палец глубоко в бокал чего-то и тщательно перемешивал содержимое, решительно выписывая круги по часовой стрелке — а потом резко остановился, критически осмотрел результат и принялся крутить палец (круг за кругом) в противоположную сторону. И все это — не отрывая от Джуди тоскливого взгляда.
Бочка по-прежнему был в высоком белом поварском колпаке, хотя сейчас тот осел и сполз ему на глаза. Красное Бочкино лицо ничего не выражало. Одной рукой он теребил грудку золотистого гуся — отрывал от нее полоски и бросал: отрывал и бросал. Тычок, сидевший рядом с ним, натренированной и твердой рукой отправлял в рот бокалы вина один за другим. Он словно выполнял какое-то нездоровое обязательство: каждую очередную порцию опрокидывал залпом и осушал к полному своему удовлетворению, затем морщил губы в молчаливом раздумье и спокойно наполнял бокал до краев — упорно и практически равнодушно продолжал гнуть свою линию. Пол — он один шевелился: тихо скользил от тела к телу — обнимал за плечи, прикасался к рукам. Кошмарная пародия на то, как он обходил всех чуть раньше. Насколько раньше? Час назад? Больше? В общем, раньше. Когда мир был совсем другим.
Я должен был (просто должен) присесть. Мне понадобились обе руки и все мои силы, чтобы сперва отлепить, а затем отстранить от себя Джуди с ее удушающей хваткой. Я сел, где пришлось, а она скорчилась рядом со мной. Лишь тогда (я не пытаюсь объяснить: я просто рассказываю) я вспомнил, что здесь Бенни и Каролина. До сих пор мне казалось, что перекличка закончена: все на месте, кто должен быть. Так что их мне пришлось искать. О. Вот они. У стены, рядом с Джоном и Фрэнки. Почему же я их не заметил? Когда засек Джона в самом начале? Не знаю (я не пытаюсь объяснить: я просто рассказываю). Каролина была, пожалуй, — задумчива? Она выглядела… покорной — наверное, точнее описать не смогу. Словно сидит в приемной перед кабинетом врача, случайно оказавшись среди толпы намного более больных людей, и всем им назначено раньше, чем ей. Или, может, ее рейс, как только что объявили, задерживается на неопределенный срок, и не в ее силах сделать хоть что-нибудь, разве что… если не усмехнуться, то хотя бы смириться. Бенни сидел на полу рядом с ней — возил вверх-вниз по ее ноге красно-желтую машинку, автобус, грузовичок… какую-то штуку с колесиками, которая пронзительно и ритмично щелкала с каждым оборотом колеса (и ниже и чаще — когда он давал задний ход). Вокруг него лежали груды разорванных упаковок: похоже, Бенни единственный, кто открыл свои подарки.
Сейчас я сидел за столом напротив Джуди — все еще около двери и очень особняком от остальных. Она будто собралась заговорить — и мне пришлось отвести взгляд. Сколько у меня еще времени, раздумывал я, прежде чем начнутся вопросы? Если Джуди прорвет плотину, хлынувшей водой меня скоро разорвет на куски. Но она, Джуди, так ничего и не сказала: передумала. Однако вскоре глаза ее и губы снова оживились: она готовилась заговорить. Я собрался с силами (мне пришлось). Потому что это был всего лишь (я знал это — с той самой минуты, как вошел, конечно, я это знал) вопрос времени — разве не так? И, похоже, время пришло. Но того, что она сказала, я никак не ожидал. По правде говоря, я был ошарашен. Она, Джуди, протянула ко мне руку, коснулась моих пальцев и сгребла их.
— Не надо… — прошептала она. — Не надо, Джейми… Погаси.
Я дернул головой и обернулся к ней — в вихре движения я потерял равновесие.
— Что?.. — озадаченно пробормотал я, пытаясь за что-нибудь уцепиться. — Что?..
Ее глаза выразительно смотрели на мои пальцы — и сигарету, дымившуюся между ними. Рядом с моей бледной и дерганой рукой валялись два изогнутых, растертых, с силой вдавленных в столешницу окурка. Я посмотрел на сводчатый потолок и пал под натиском нового, безумного удивления. Слезы — брызнули слезы: частые и горячие — выдавились сквозь сморщенные, расплавленные веки. Я потушил сигарету (одну из трех, значит, бессознательно мною выкуренных), потому что сейчас мне требовались обе руки, чтобы закрыть лицо. И в тот краткий миг, когда я еще не зажмурился, я мельком заметил Гитлеров: ни разу прежде я не видел, чтобы они улыбались.
— Тебе еще не пора?.. — спросила Джуди голосом тихим и отсутствующим. Джейми с трудом ее слышал. Как будто с каждым произнесенным словом она извинялась за то, что вообще говорит, а может, даже за то, что находится здесь. — Не пора наверх?
Джейми поворачивался под пальцами Джуди, которая стояла у него за спиной, и массировала ему виски — машинальнее, чем обычно, казалось Джейми. Он посмотрел на часы, хотя и без того точно знал, сколько времени.
— Пара минут, — сказал он. — Еще пара минут.
Джуди кивнула. Ее руки замерли — а затем она, видимо, вспомнила, чем занимается, и они вяло вернулись к своим обязанностям.
— Не знаю, куда Тедди подевался. Не видела его утром. Не знаю, где он. Он глаз не сомкнул. Как и все мы, я так думаю. Потому что мы все… все наперекосяк, да? Гм? Джейми? Рождественское утро… совсем не таким оно должно быть…
Джейми потянулся назад и погладил ее по руке.
— Знаешь, ты не должна этого делать. Если не хочешь…
— Гм? Делать чего? А — твоя голова. Думаю, пока хватит. Если ты, гм, не… Я все равно неправильно это делаю, если честно.
Джейми встал и обнял ее, когда услышал первый резкий вдох, предвестник последнего приступа сухих и болезненных рыданий.