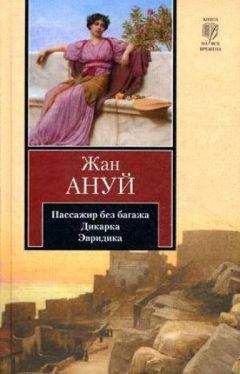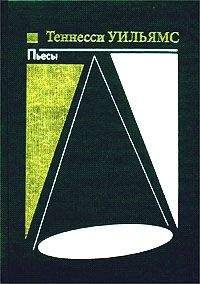* Лес Созерцания (яп.); этот храм знаменит своими кленами.
** Секта Дзёдо или Дзёдо-сю, так называемый Буддизм Чистой Земли, проповедует, что спасение можно обрести только через веру, а не путем достижения просветления через нравственное поведение и медитацию. Поскольку с течением времени человеку становится все труднее следовать примеру Будды, Дзёдо учит, что в нынешние времена можно спастись, только положившись на милость Будды Амиды, повелителя Чистой Земли на Западе.
*** Модернистское направление в изобразительном искусстве, использует оптический эффект, создаваемый узорами, на тканях, посуде, картинах (от op(tical) «оптический» + art «искусство»).
Возвращаюсь на дощатый настил; меня обгоняют две низкорослые дамочки в парчовых костюмах и нейлоновых чулках цвета застарелых бинтов. Дамочки кланяются и, сверкнув золотыми коронками зубов, взбегают вверх по ступеням, ведущим к пагоде. Я пропускаю их вперед, давая как можно больше «форы», и тащусь вверх по другой лестнице к следующему павильону. Павильон заставлен огромными белыми деревянно-бумажными ширмами, и все они плотно закрыты, за исключением тех, что впереди в самом центре – эти приоткрыты самую малость, довольно, чтобы одним глазком заглянуть.
Виден кусок темной залы с высоким потолком, алтарь в обрамлении толстых деревянных колонн, замысловатые золоченые канделябры в форме цветов лотоса. В самой глубине комнаты, за алтарем, различаю что-то вроде золотой статуи в нише. Видеть вижу, а толком разглядеть не удается: такая досада! Золотой отблеск манит и притягивает, белые бумажные двери не пускают.
Упрямо ошиваюсь вокруг здания. Знаю: все прочие ширмы закрыты плотно, но думаю про себя, если возвращаться снова и снова, одна из них, может статься, и раздвинется, пока я стою спиной. Разумеется, ничто не мешает мне просто-напросто взять да и отодвинуть одну из створок, я прямо-таки представляю, как она ходит в желобке, но как-то оно неправильно будет. И без того ощущаешь себя настырной иностранкой, здоровенные ножищи – в каждой маленькой лужице, здоровенные (ну, в сравнении) титьки, точно воздушные шары, так и норовят ткнуться в физиономию каждого прохожего, здоровенная задница сметает ряды пешеходов в сточную канаву всякий раз, стоит мне повернуться.
Возвращаюсь к фасаду, вновь припадаю к щелочке. Все, что мне дано. Все, чего бестолковая гайдзинка заслуживает.
Сзади – приглушенное хихиканье. Две дамочки в парчовых костюмах. Одна отодвигает створку похожей на ящерку рукой. Обе улыбаются золотозубыми улыбками, кланяются.
– Додзо*, – говорят они. – Додзо.
Перешагиваю через высокий порог, шлепаю по татами. Дамочки, громко тараторя, семенят впереди. Встают перед широким алтарем, дважды хлопают в ладоши, кланяются, отходят назад, склонив головы набок. Та, что пониже – она-то и отодвинула створку, – поднимает смуглую руку и делает жест, что в ином мире сочли бы крайне непристойным. Обе сгибаются пополам от смеха. Спиной вперед, шаркая, семенят назад через татами, беспрерывно кланяясь, пока не оказываются за дверью.
* Пожалуйста (яп.).
Во влажном воздухе подрагивает золоченое отражение их улыбок.
Золотой Будда стоит себе в нише, вполоборота, точно уходить собрался. Оглядывается через левое плечо. И улыбается в придачу – не той раздражающей надменной улыбкой, что видишь у стольких Будд, но этак обольстительно, едва ли не жеманно. Одежды распахнуты до пупа, видна верхняя часть животика и груди – мягкие, округлые, теплая золотая ложбинка между ними, не то чтобы женские, и не то чтобы мужские, просто сексапильные – так глядит хипстер конца семидесятых, замешкавшись в дальнем конце бара. Вся его поза говорит: он уходит, хватит с него, нечего тут делать, что за сборище лохов, а глаза, улыбка, груди, тускло поблескивающий пуп добавляют: «Конечно, не считая тебя, зайка».
Пора бы и мне двигаться, в самом деле, надо бы уходить из этой залы под покровом дождя. Последний поклон и все, не хочу быть здесь, когда зажгут свет, завтра рано вставать, останься, ну, еще строчка, я ни за что не усну… Вот только фонограммы к «Би Джиз» нам сейчас не хватало, «Как глубока твоя любовь?».
И тут – не знаю уж, как они это делают – губы его приоткрываются, и гулкий голос заполняет всю залу, гладит меня по спине, точно теплая ладонь:
– Луиза, хватит бездельничать.
Как такое можно подстроить, задним числом сообразить нетрудно. Не нужно быть специалистом по ракетной технике, чтобы распознать во мне англоговорящую иностранку. Компашка молодых монахов не знает, чем себя занять в дождливый день, делать ребятам нечего, кроме как туристов пугать. Вот как они имя мое вычислили – задачка потруднее.
Поймала такси, вернулась в «Клубничный коржик», продрыхла двадцать семь часов, пропустив в пятницу очередной урок с миссис Накамура и иже с нею.
Супермаркет «Серебряный павильон» на Синигава во всем подобен нашим, если не считать двух особенностей. Пахнет там так, как если бы в нем продавалась настоящая еда: всего отчетливее заявляет о себе соевый соус, но тут же и имбирь, и кулинарный жир, овощи и мясо на разных стадиях разложения на складе в недрах здания, и резкий маслянистый запах плотно спрессованной рыбы. Во-вторых, что неудивительно, я не в состоянии прочесть ни одной этикетки, кроме как в небольшой секции американских деликатесов в самой глубине магазина, рядом с секцией готовых блюд, где я порою покупаю за двадцать баксов коробку «Харвест кранч»*, приношу ее к себе в номер и съедаю всухомятку за один присест. В остальной своей части супермаркет – это игра в жмурки с открытыми глазами: ходишь взад-вперед по рядам между полками и пытаешься выудить что-нибудь съедобное. Этикетки – да что там, сам зеркальный блеск целлофана и упаковочной фольги кажутся ярче западных, скорее всего потому, что меня не отвлекает смысл.
Моя любимая секция – это ряд праздничных угощений: он тянется до бесконечности, без числа пакетов безымянных вкусностей. Здесь упаковки по большей части прозрачны, и все равно стоишь и гадаешь: ни дать ни взять коллекция экспонатов в лаборатории из фильма ужасов – в некоторых содержимое смахивает на плесневые грибки и на эмбрионы одновременно. Эти лучше не трогать. В других – вульгарно-яркие конфеты и закуски для коктейлей. В мои первые несколько вылазок сюда я пыталась отыскать хрустики из морских водорослей, те, что подают в «Берлоге» в небольших керамических чашах; задача вроде бы несложная. В первый раз я подумала, что вот оно, одно к одному. Принесла домой, открыла – на вкус прямо как карамельный попкорн. Вторая попытка вообще описанию не поддается: до сих пор порою в горле ощущаю привкус.
* «Harvest crunch* – разновидность овсяных хлопьев.
А еще я люблю бродить по секции эксклюзивных фруктов, где за сто долларов подберешь себе неплохую дыньку. Отборная кисть мускатного винограда, свежая, только-только с умбрийского побережья, обойдется куда дороже; зато и то, и другое упаковано в изящные переносные коробочки с прозрачной передней стенкой, а работник магазина, в свою очередь, завернет ее в несколько слоев фольги, оберточной и папиросной бумаги, перевяжет ленточками, а затем положит в пакет, ограждая от разрушительных стихий. Миссис Накамура как-то объяснила мне, что подарочные фрукты не для еды; это – фрукты-подношение, вроде как если тебя пригласили на ужин, ты прихватываешь с собой бутылку вина. А здесь изволь тащить купленную в рассрочку мускусную дыню.
Каких только странностей не найдешь в здешних закромах! Кое-какие товары выглядят в высшей степени сомнительно, как, например, вот эта штуковина вроде окаменелой пурпурной цветной капусты или продолговатый, землистого цвета корнеплод с глазищами куда более убедительными, нежели глазки на картофеле. В целом я стараюсь держаться знакомых вещей: не могу же я приставать к одноязычному персоналу, сжимая в одной руке здоровенный овощ неправильной формы и вопрошая: «Да что ж это такое, во имя всего святого?» Вот поэтому, наверное, я и застряла перед россыпью огурцов, глубоко погрузив в них руки, щупая, тиская, думая о Питере. Как ему, однако, подходит это имя*.
* В американском слэнгс слово Peter используется как название мужского полового члена, а также как название наркотика, вызывающего потерю сознания.
Разумеется, он не нарочно; нарочно такого не сделаешь. Ну не псих ли – так вот прямо взять да и слинять, ни словечка, ни номера телефона – ничего. Конечно, псих: разве нормальный человек меня бы оставил, nicht wahr? На самом деле я больше не вспоминаю о нем так уж часто, да практически вообще не вспоминаю, кроме как в определенные часы всякий день: просыпаясь, и поздно вечером, и в три утра – а я всегда пробуждаюсь в это время, выныриваю, проплавав с час в подводных глубинах сна. В чудное же положение я попала: скучаю не по сексу, а по сексу именно с ним. Трахаться – это было не по части Питера, – шутка вселенского масштаба, девушки! – ширево оставляло его не столько расслабленным, сколько равнодушным. При этом ствол его был из тех, что всегда примерно одного размера, вставший ли или нет. Когда я первый раз расстегнула ему джинсы, в женском туалете одной дыры в Торонто, там еще регги наяривали, хрен так и вывалился наружу, откинулся, точно подъемный мост, – Питер заталкивал его в штаны сложенным вдвое, только так и можно было с ним ходить, не возмущая общественного порядка.