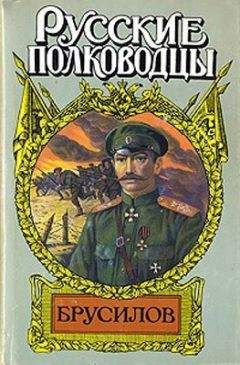Игорь долго и трудно думал над этим предложением. Оно открывало ему дорогу к боевому действию, и вместе с тем в нем было что-то мелкое, затхлое. Что именно, Игорь определить не мог… Он знал, что не подготовлен судить здраво о политических событиях и тем более разгадывать их причины. Политические убеждения он понимал как следствие моральных принципов, незыблемых от века. У Игоря был абсолютный слух на лживость и своекорыстие в человеке, как у иных бывает он в музыке. На сей день для него это был единственный доступный ему способ найти самого себя, свое место в жизни.
Петроград встретил Игоря дождем и ветром. Частый противный косой дождь бил в поднятый верх извозчичьей пролетки. Встречные пешеходы под зонтами и в калошах жалко ежились. На Неве гудела сирена. В квартире матери, на Таврической, Игоря встретил старик лакей Антон, оставшийся на лето стеречь вещи. У Антона болели зубы. Он ходил с подвязанной щекой, хмурый, и пахло от него гвоздичным маслом. В комнате сестры Ирины на письменном столе лежало нераспечатанное письмо из действующей армии, очевидно от Васи Болховинова, полученное после отъезда Ирины сестрой на фронт. В комнате Олега царил невообразимый хаос: под столом стояла батарея бутылок из-под шампанского, коньяка и ликеров. На столе валялись две пары лакированных полуботинок, жестяные коробки с трубочным табаком, сигарные ящики и пустой опрокинутый сифон. Вчера было воскресенье — отпускной день, и Олег развлекался по-своему.
Игорь раздраженно хлопнул дверью, приказал подать себе умыться и, не выпив кофе, предложенного Антоном (Антон пил кофе во все часы дня), отправился на службу. Он был откомандирован временно в штаб Петроградского округа представителем Преображенского полка.
В штабе толкалось много народу. Шныряли озабоченно гвардейские прапоры, бегали писаря и вестовые, слышались раскаты здорового смеха. У двух попавшихся Игорю на глаза прапорщиков-преображенцев на щегольских френчах белели значки Пажеского корпуса. Одному из них Игорь крикнул раздраженно: «Окопались!» И только тогда сообразил, что это глупо, когда; вышел на площадь. Дождь хлестал ему в лицо, извозчик ждал у подъезда. Делать больше было нечего. Начальства своего он не застал, начальство, как ему доложили, бывало редко — дело шло само собою под руководством штабных писарей.
— Черт знает что такое! — крикнул Игорь дождю, ветру, порядкам в штабе и самому себе.
Он полистал в записной книжке, назвал извозчику один из тех адресов, которые были указаны в письме Коновницына. Извозчик повез его в Измайловские роды. Там у серого, казенного вида дома Игорь вылез из пролетки, приказав дожидаться, и поднялся на второй этаж.
«Иван Павлович Кутепов» — прочел он на медной дощечке и позвонил. «Что бы ни было, каков бы ни был этот Кутепов, — не упускай ничего, — сказал он себе. — Надо завести блокнот, приучусь записывать, а то память может подвести».
Минуты через две за дверью что-то царапнуло, дверь приоткрылась, в узкую щелку, за цепочкой, Игорь увидел из темноты глядящие на него два припухших глаза.
— Вам кого? — спросил женский неприветливый голос.
— Мне полковника Кутепова.
— Пожалуйте карточку.
«Да что она, не видит, кто перед ней?» — подумал, сдерживая себя, Игорь, брезгливо отчеканивая сообщенный ему пароль:
— Я от Ивана Ивановича. А карточка моя — вот.
Прошло еще некоторое время, наконец дверь перед ним распахнулась. Сняв шинель, Игорь в сопровождении женщины прошел из темной передней в зальце. Женщина оказалась толстой, расплывшейся кухаркой в синем засаленном переднике над вспученным животом. Пройдя вперед, она обдала Игоря букетом лука и лаврового листа. В столовой Игорь увидел сидящего за обеденным столом военного в белом кителе. Перед военным стояла тарелка, на тарелке лежал аппетитный, залитый сметанным соусом бочок куропатки. Военный, видимо, только что принялся завтракать.
— А-а, — протянул он, вытирая легким взмахом салфетки пышные усы и чуть приподнимаясь из-за стола, — милости прошу!
Когда он опустил салфетку, Игорь увидел русую, разделенную надвое холеную бородку и на широких плечах кителя полковничьи погоны. Перед ним был лейб-гвардии Литовского полка полковник Кутепов, один из главных руководителей сообщества.
— Прошу садиться, — сказал он с благодушной улыбкой, открывшей великолепные зубы. — Вы застаете меня за завтраком, не посетуйте. Еще прибор! — крикнул он продолжавшей стоять возле двери толстой женщине.
Игорь отказался от завтрака. Он присел сбоку стола, внимательно наблюдая хозяина. Полковник взялся за нож и вилку.
— Напрасно, — воскликнул он, — много потеряете! Глафира — исключительная повариха, своего рода художник. Я люблю хорошую кухню. А вы?
Игорь смущенно помялся. Он никогда не задумывался над этим вопросом, но сейчас был голоден и с удовольствием бы поел. Застенчивость и желание соблюсти приличие заставили его отказаться от завтрака.
Кутепов ел удивительно красиво и невольно вызывал зависть. Каждое его движение было точно, легко и непринужденно. Когда он жевал, красивое лицо его не делалось, как это бывает у многих людей, туповато-сосредоточенным. Напротив того, оно озарялось легким светом испытываемого удовольствия, глаза начинали блестеть возбужденно и весело, точно каждый проглоченный кусок был чудесным открытием. Пальцы, державшие вилку и нож, были нежны, как у женщины, длинные и холеные ногти блестели розовым лаком.
— Куропатка божественна, — уверенно молвил Кутепов после нескольких проглоченных кусочков. — Стакан! — крикнул он снова кухарке. — И достань бутылку мозеля. Вы предпочитаете белое или красное? — обратился он к Игорю. — Рекомендую мозель. Весьма неплохое винишко, хотя и немецкое. Его у нас теперь сохранилось мало.
Кухарка подала узкую высокую бутылку и тонкий, в сверкающую стрелку стакан.
Игорь успел приметить, что сервировка у полковника была тщательно, со вкусом подобрана. «Что за странный субъект, — думал Игорь, — в нем что-то изнеженное, сластолюбивое и вместе очень уверенное в себе, твердое… а рот совсем как… у кого же? Дай Бог памяти, еще недавно… ай… ну конечно, совсем как у Сонечки, — жадный, с бесстыдно вывернутыми губами… — Игорь невольно вспыхнул, раздраженно шевельнул плечами. — Однако он не собирается начинать разговор…»
Кутепов только изредка бросал незначащие фразы, очевидно не желая нарушать то состояние прислушивающегося к себе удовольствия, в каком он находился.
— Мне писал Коновницын, мой товарищ по Пажескому корпусу… — начал наконец выведенный из терпения Игорь.
Но полковник с улыбкой перебил его:
— Одну минуту. Я сейчас кончу, и мы поговорим на свободе. Кофе подашь в кабинет, — приказал он кухарке, убиравшей тарелки. — Она у меня пятый год, — сказал он, когда кухарка вышла, и потянулся за сыром. — Я вам отрежу кусочек. От Соловьева — швейцарский.
Точным движением он отрезал тыльной стороной ножа тонкий лепесток и положил его на тарелку перед Игорем. Другой лепесток, чуть запрокинув голову, призакрыв голубоватые выпуклые веки, поднес к губам и понюхал.
— Сыр обаятельный, — произнес он таким тоном, точно говорил об актрисе. — Да, пять лет, — проводя кончиком языка по нёбу, продолжал Кутепов. — Я заметил, что вас поразил ее вид. Она неряха, урод, но незаменима. Даже на Гастона от Кюба ее не променяю. Она смотрит мне в глаза, следит за каждым глотком, изучила все мои привычки. К тому же у меня бывают дамы, я холост, и никто из них не заподозрит, что я могу иметь связь с этим монстром.
Полковник улыбнулся, сверкнув зубами.
«Он знает, что улыбка красит его», — подумал Игорь неприязненно. Голова чуть кружилась от выпитого натощак вина, откровенности хозяина казались излишними, дурного тона.
— Денщиков не держу, — откусив сыра и глотнув вина, продолжал Кутепов. — Хамы, суют нос куда не надо. Глафира нема как рыба. Она ведет запись моих приемов. Деловых и интимных.
Улыбка снова осветила лицо полковника.
«Женщины, наверно, без ума от его улыбки, — решил Игорь. — Фу, до чего все это противно…»
Кухарка, толкнув ногою дверь, внесла кофе в кабинет. Кутепов встал из-за стола, захватив с собою фарфоровую доску с куском слезящегося сыра, и жестом пригласил Игоря пройти вперед.
Игорь остановился, пораженный. Все стены кабинета были увешаны женскими портретами. Их было больше сотни — писанных маслом, пастелью, акварелью, карандашом, снятых всеми способами, во всевозможных манерах, во всех видах. Тут были дамы в бальных и вечерних туалетах, и девушки в беленьких институтских передничках, и особы неопределенного возраста в неопределенных маскарадных костюмах. Большинство из них, — Игорь не мог не признать, — были хороши собой. На письменном столе лежал под стеклом гипсовый слепок женской груди. Прекрасная мраморная копия роденовского «Поцелуя»[18] стояла в углу на гранитном цоколе.