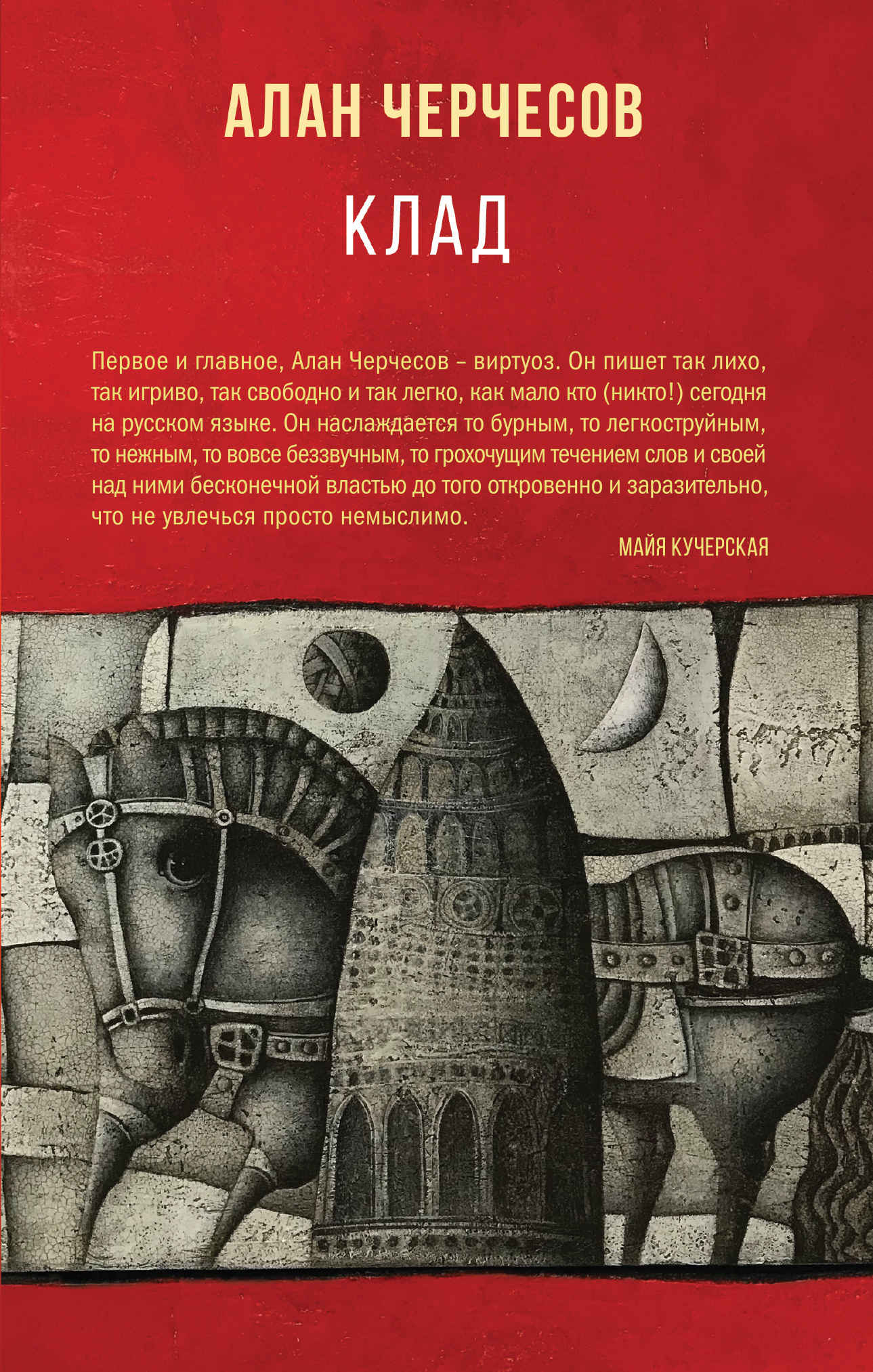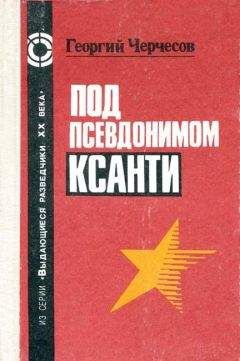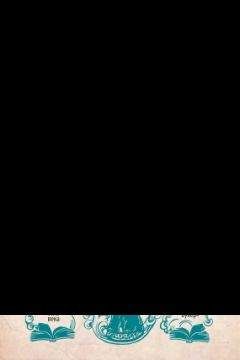из-за невидимого папаши, одного на шесть или семь миллиардов, у которого только и дел, что стращать, не платить алименты да лениться ударить палец о палец, чтобы явить нам свою справедливость? На сей счет, между прочим, имеется афоризм: если Бог есть, но делает вид, что Его нет, то не стоит Ему в этом препятствовать.
– А если Он шлет потом громы и молнии?
– Значит, вышел прокол с маскировкой.
– Выходит, Он все-таки есть?
– Выходит, Его слишком мало.
– Получается, надо помочь.
– Не мешало бы. Но тут мы опять возвращаемся к нашим истокам: Земля для любви приспособлена мало. Как и для самопожертвования. Хорошо, что хоть Богу прекрасно известно, что Он ни к чему не причастен. В этом и состоит Божий Промысел: быть ни к чему не причастным и осыпаться за это хвалой.
– Раньше ты в Него верила.
– А потом поняла: незачем вмешивать Бога в наши проблемы, выставляя сбежавшим сообщником. У Него и так высший срок: осужденный на вечность…
* * *
Тысячи камер по городу были расставлены вот уже несколько лет, однако программу распознавания лиц внедрили лишь к февралю.
Распространителей масок поймали не всех и не сразу. Запрещенный товар скупали у мафии оптом и распродавали в подпольную розницу. Пользуясь тем, что ввоз масок в РФ подпадал под статью «контрабанда», подсуетились ушлые самоделкины. Оттеснив спекулянтов, они под завязку насытили рынок своей контрафактной продукцией. Спрос на латекс многократно возрос. Потом резко упал – когда за ношение масок ввели админштраф в пятьсот минимальных окладов. Большинству потребителей наказание было не по карману, а посему «вероломные планы врагов подорвать госустои страны» потерпели фиаско.
– Говорят, намечаются обыски. А еще говорят, научились сквозь маски прочитывать лица.
– Плевать.
– Так и так ты не носишь свою.
– Наплевать.
– За полгода – ни разу.
– Отвянь.
– Я и то надевал.
– Ты герой. В микромикроформате. Забыл?
– Мне показалось, или ты в самом деле становишься сукой?
– Да пошел ты, ссыкло!
– Истеричка.
– Мудак.
– Психопатка.
– Ничтожество. Тряпка.
Он посмотрел на цветок, на жену и опять на цветок, на сей раз – озадаченно: Караваджо на их перебранку не отреагировал. Странно, подумал супруг.
Потом сообщил (или все же спросил?):
– Я тебя ненавижу. (?)
– А мне на тебя наплевать.
– Это мне наплевать, – буркнул он, распаляясь, но как бы с ленцой, без души. – На тебя и твои кретинизмы.
– Не забрызгай слюной лепестки, василиск недоделанный.
– Ладно. Запомни.
– Да что в тебе помнить? Давно ничего не осталось. Ты сам уже маска. Кусок негодящей резины.
Муж зевнул.
– Черт с тобой. Оставляй, если хочешь.
– Хочу.
Он швырнул ей свою.
Увернулась.
Маска шмякнулась о занавеску и, причмокнув, скатилась распоротым мячиком к плинтусу.
Жена усмехнулась.
Вот сейчас я и вправду ее ненавижу, подумал супруг, включил телефон, засек время, потом подождал, посчитал и проверил.
Не так уж и долго.
– Две минуты семнадцать.
Супруга презрительно вскинула бровь и, уткнувшись в ноутбук, промолчала.
– Две и семнадцать секунд. Столько я ненавидел.
– Негусто.
Подумал: зато весь вспотел, хоть в тазу выжимай.
– А если найдут?
– Не найдут.
– Ну а если найдут?
– Я устала бояться.
– Я тоже, – он снова зевнул. – Только устать – это ведь не перестать. Или ты перестала бояться?
– Все, что у нас еще есть своего, это лица.
– Зачем тогда маски?
– Чтоб уберечь наши лица от слежки – хотя б на чуть-чуть.
– Почему же тогда ты…
– Боялась. Я и сейчас их боюсь. Просто очень устала.
– Я тоже.
Пора б ей пойти на попятную, подумал мужчина, украдкой взглянув на часы.
– Если ты хочешь, порвем.
Минута шестнадцать секунд.
Добавив к ним двадцать, он твердо сказал:
– Не хочу.
– Но порвем?
– Я не знаю. Какой нам с них прок?
– Никакого.
– Только себя подставляем.
– Согласна.
– И ради чего? Ради дурацкой бравады!
– Я-то думала, ради сопротивления.
– Не носить, чтобы прятать?
– Прятать, чтобы носить. Не обязательно на голове. Можно и в голове. Разве нет?
– В голове – это можно. В ней можно носить что угодно. Не обязательно маску. Она-то тебе для чего?
Сверкнула недобро глазами:
– Чтобы совсем не утратить навыки прямохождения! Или, по-твоему, этого мало?
– Мы сделаем так, как ты хочешь.
– А ты так не хочешь?
– Хочу.
– Ты не хочешь!
– Хочу.
– Ты не хочешь.
– Я тряпка.
– Ты просто боишься.
– Боюсь.
Тридцать восемь секунд.
– Просто я идиотка.
– Это я просто трус.
– Если хочешь, порви.
– Ни за что.
– Хочешь, сама их порву?
– Если хочешь.
– Сколько раз повторять: не хочу!
– Успокойся! Мы их не порвем.
– Поклянись!
Он поклялся.
Она соскользнула со стула. Муж упал на колени и перехватил на лету, не дав расшибиться лицом о паркет.
Натолкавшись в объятьях, женщина влажно уткнулась мужчине в рубашку и зарыдала.
«А вот интересно, я ее точно люблю?» – думал он и старался припомнить на ощупь, как прежде, в былые эпохи, изъяснялась руками их исповедальная нежность.
Ночью они на износ истязали друг друга – то ли гневливой любовью, то ли брезгливым отчаянием.
Наутро супруг обнаружил жену у дымящейся раковины.
– Так будет лучше, – сказала она.
– Достаточно было порезать.
– Мне захотелось поджечь. И я подожгла, только очень воняло. Пришлось открыть кран.
– Можешь уже закрутить.
– Не могу.
– Давай я.
– Погоди. Пусть течет.
– Для чего?
– Таковы обстоятельства.
Позже она рассказала, как ее дед-профессор на старости лет обзавелся деменцией.
Это случилось на лекции: ни с того ни с сего запнулся на полуслове и стал грызть мелок. Потом снял пиджак, наслюнявил подкладку пузырчатой белью, сложил его вдвое и начал тереть, не обращая внимания на изумленные возгласы аудитории.
Постирушки прервали охранники.
Вызвали санитаров и бабку.
Из деканата его повезли к мозгоправу, а после осмотра – в больницу, где продержали профессора несколько месяцев.
– Когда он вернулся, меня к нему не подпускали…
Днем дед бывал еще ничего. По солдатской привычке вставал на рассвете, делал зарядку, пил чай с крендельком. За столом себя вел, как всегда: был неизменно опрятен и вежлив. Затем уходил в кабинет и часами читал, но сложные тексты усваивал плохо, а на простые бесился, драл в клочья страницы и знай приговаривал: «Кыш отсель, шелуха!»
К вечеру дед утомлялся, плюхался в кресло и дулся на бабку. Иногда сквернословил и порывался влепить ей пощечину. Но самые гнусные пакости отчебучивал по ночам: то запоет во всю глотку «Дубинушку», то стащит из бара коньяк, напялит пальто на пижаму и намылится в парк «покутить с сирым племенем», то достанет портняжные ножницы и раскромсает одеяло на спящей супруге. На ее возмущение: дескать, какого рожна, – дед прикладывал палец к губам и