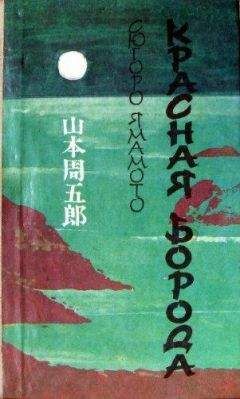«Нет в этом мире плохих людей» — и в памяти всплывают слова дзэнского монаха Иккю, жившего в XV веке: «Легко войти в мир будды, трудно войти в мир дьявола».
«Эти слова не дают мне покоя, — признавался всемирно известный писатель Ясунари Кавабата в своей речи по случаю присуждения ему Нобелевской премии в 1968 году. — Их можно понимать по-разному. Пожалуй, их смысл безграничен. Когда вслед за словами «легко войти в мир будды» читаю «трудно войти в мир дьявола», Иккю входит в мою душу своей дзэнскои сущностью. В конечном счете и для человека искусства, ищущего истину, добро и красоту, желание, скрытое в словах «трудно войти в мир дьявола», в страхе ли, в молитве, в тайной или явной форме, но присутствует неизбежно, как судьба[89].
Зачем же входить в мир дьявола? Разве это не есть величайших грех — союз с нечистой силой?
Нам это вдвойне непонятно, потому что мы привыкли видеть дьявола, как и бога, где-то там, вне себя, и таким образом ощущать себя и вне бога, и вне дьявола. Но согласно традиционному мировоззрению японцев, все едино, все не двойственно: нирвана и есть сансара (явленный мир), сансара и есть нирвана. Уже в сочинении монаха X века Гэнсина «Записи о Чистой земле» («Одзёёсю») встречается изречение «мир дьявола и есть мир будды». Правда, буддийский дьявол выглядит иначе — это владыка шестого неба, владыка тех, кто одержим страстями, и эти страсти засоряют, делают мутным изначально чистое сознание. Каждое существо обладает чистой и светлой природой будды. Это и имеет в виду Ниидэ, говоря, что «нет плохих людей», но мало кому при жизни удается сохранить чистоту, устоять против соблазнов, против корысти и обмана, о чем говорится в сутрах.
Ниидэ видит человека таким, какой он есть: «Нет ничего на свете более благородного, прекрасного и чистого, чем человек. И нет ничего на свете более злобного, грязного, тупого и алчного, чем человек». В каждом он находит что-то хорошее: «Нужно из плохого человека научиться извлекать то, что в нем есть хорошего, точно так же как из ядовитых растений извлекают лекарство. При всех обстоятельствах он ведь все-таки человек».
Да, воистину прав Кавабата: «Без «мира дьявола» нет «мира будды». Войти в «мир дьявола» труднее. Слабому духом это не под силу...
Признаюсь, и я ломала голову над этой фразой, и, скорее всего, сама жизнь подсказала ответ: дьявол не где-то там, в преисподней. Все есть во всем, все есть в душе человеческой, все в нас самих, и высокое, и низкое, и то, что от бога, и то, что от дьявола. И потому, говорят японцы, не пройдя через мир дьявола, не преодолев его, не окажешься в мире будды. Собственно, у человека нет выбора, если это один и тот же мир: все в душе человека, и светлое и темное, но, лишь осознав это, он может распорядиться собою.
В каком-то смысле Красной Бороде это оказалось доступно. Он не убоялся смотреть жизни прямо в глаза, не отвел взора, и это его очищало, делало другим — «сильным духом», на таких земля держится. Потому он и притягивает к себе, что сам прошел через ад и очистился, нашел в себе силы не застрять в адском состоянии, победить себя, покорить страх и искушение и не дать себялюбию закупорить душу. Увидевший себя, видит других, а увидев других, не может им не сострадать. Потому и подключен Ниидэ к горю людей, что видит за ужасом жизни то, что другим недоступно, — высший миг смерти, как миг освобождения души из оболочки изможденного болезнями, голодом и вожделениями тела. И отсюда, от прозрения, его одержимость в работе и готовность помогать бедным и бороться с власть имущими. Он потому и защищает беззащитных, что видит в них душу живую, «ростки подо льдом» — как и названа одна из глав повести. Ниидэ «находит смысл жизни не в том, чтобы добиваться реальных, видимых невооруженным глазом уже сегодня результатов, а в постоянном труде, который на первый взгляд кажется напрасным. «Я посвящаю себя напрасному труду, — говорит он. — Любой росток несложно вырастить в теплице, но, пожалуй, истинный смысл жизни в неистребимом желании вырастить зеленый росток среди льдов». Это чудо ему удается, и он спасает жизнь не рожденного еще ребенка, защищая вместе с юной О-Сэй ее материнский инстинкт, — тот росток жизни, который пробивается сквозь корку подтаявшего льда; он преображает душу поначалу самоуверенного Нобору — и тому открывается неброская красота.
...Не вычерпать подвижнику чашу человеческого горя, но, если он помог пробиться хотя бы одному ростку сквозь толщу оледеневшего чувства, он уже не может считать свой труд и свою жизнь напрасной. Таким поистине «зеленым ростком среди льдов» можно назвать героиню еще одной исторической повести — «Девушка по имени О-Сэн». Какие только напасти не выпадали на ее долю! Обещая ждать жениха, она не нарушила слова, хотя адский огонь преследовал ее ежечасно, и в прямом, и в переносном смысле. Пожар, спаливший Эдо, лишил ее не только крова и единственного родного человека, но и памяти, рассудка. Она привязывается к спасенному из огня чужому младенцу и возвращается к жизни. Поистине слабый зеленый росток смог пробиться сквозь толщу льда.
«Трудно войти в мир дьявола», но еще труднее пройти его, не замутив душу, не возненавидеть этот мир, а возлюбить его и через это испытать любовь к тому, кого уже нет, ощутить связь посюстороннего, страшного мира с миром истинным. Притом связь не надуманную, почти физически ощутимую, предвещающую встречу в Чистой земле, в существовании которой японцы тех времен не сомневались. Их, собственно, и поддерживала эта вера в то, что их мучительное нынешнее существование непременно искупится вечной жизнью, там, в светлом мире будды Амитабхи[90], — иначе нет оправдания этому миру.
Ямамото Сюгоро родился в провинции Яманаси в 1903 году, а умер в 1967-м. Его настоящее имя — Симидзу Сатому. Симидзу в переводе на русский означает «ключевая вода», чистая, родниковая, незамутненная. Чистая, значит, первозданная, без какой-либо примеси, бьет из нутра земли. Так оно и есть. И все же он взял псевдоним — Ямамото Сюгоро, из благодарности. Это имя его родственника, державшего небольшую меняльную лавку, и Ямамото жил у него в молодые годы. Его поразила доброта этого человека, безразличие к деньгам, и он попробовал смотреть на мир его глазами. По крайней мере вслед за историческими повестями Ямамото начал описывать мир людей, которых видел вокруг себя. Они и стали героями его рассказов. Он был своим среди них и потому смог разглядеть то, что не видно чужому взору. Как в одном из рассказов — приехали благотворительницы, привезли подарки, но местные встретили их бранью. А приехала своя, разбогатевшая, разбитная, которой ни до кого из них не было дела, отнеслись почтительно. Своя! А главное — не унизила их достоинства, значит, видела его, хотя и казалось, что и достоинства-то уже никакого не осталось. Им ничего не предлагали, и от них ничего не хотели. Жалость, она оскорбительна для униженных. Она, действительно, унижает, если не своя, если за ней пусть неосознанное, но чувство превосходства дающего перед берущим. И нет ничего ближе жалости, если она своя, от сердца к сердцу, когда и другого, и себя жалко, вообще, эту жизнь и все существа, когда это сопереживание всех касается. И от этого другому легче, от осознания того, что и он может кого-то пожалеть. Такая всеобщая жалость не говорит, что именно ты достоин жалости, а говорит — все достойны жалости, а еще лучше — любви.
Когда читаешь рассказы Ямамото Сюгоро, не сразу отдаешь себе отчет в том, что же трогает в них, порой настолько, что мурашки по коже. Вот эта любовь-жалость и трогает. Он именно жалеет тех людей, о которых пишет, притом так, что вроде бы и не жалеет, по крайней мере не думает, что жалеет, но и не может не жалеть, потому что таков он и таковы они. Он их не изучает, это даже на манере сказывается, он их со скорбью рисует, сидя в задумчивости перед мольбертом, и как будто думает совсем о другом, не ужасается тому, о чем пишет. Он — это они, а они — это он, и потому он ничего не навязывает. Между ними нет дистанции: он живет в них, а они — в нем. Он, конечно, не такой, как они, и они почтительно называют его «сэнсэй» — «учитель», уважают, не видят в нем чужака. Но он смотрит на мир их глазами и ничего от них не требует, ничего не предлагает. Нет и намека на поучение — «как же можно мириться с такой жизнью?» Есть безысходность, и есть постоянное ощущение того, что к этому несводима жизнь, что и во тьме свет светит. Поэтому он и не пытается навести порядок: есть какое-то высшее предначертание в этом аду и нужно пройти сквозь него, не оглядываясь, а оглянешься, сгоришь в языках пламени. Это, естественно, не тот огонь, который растопит лед бездушия, — только зеленый росток, зерно которого есть в сердце каждого, может пробить себе путь к свету, если хватит сил, если он, этот росток, еще жив. Но у одних он есть, у других уже погиб, и им уже никто не поможет.