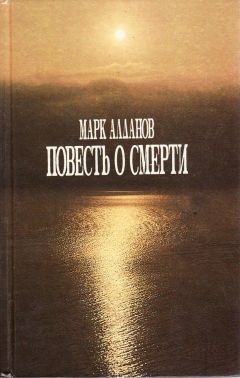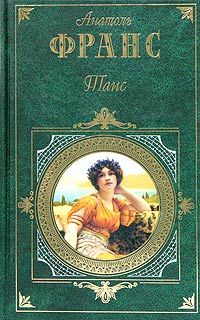Она поставила оба стакана на ночной столик и обняла его.
— Ну, вот… Прощай, Митя… Прощай, мой ангел…
— Прощай, милая… Золотая… Прости меня, прости за всё…
— Не за что… Ты меня прости… Сейчас, а то не хватит сил…
— У тебя глаза… Точно такие… Какие были… тридцать лет тому назад… Прощай, дорогая… Нет, до свиданья… Есть вечная жизнь.
— Есть… Есть… Не может быть, чтоб не было. До свиданья, Митя, мой Митя.
Всю зиму 1921—22 гг. Ленин чувствовал себя нехорошо. Врачи качали головой: сосуды в очень плохом состоянии, сильный склероз. Советовали поменьше работать и в особенности поменьше волноваться. Он смотрел на них с усмешкой, но согласился уезжать иногда на отдых. Было выбрано имение Горки, принадлежавшее до революции вдове Саввы Морозова.
Оно понравилось Ленину: хорошо устраивались буржуи. Впрочем, дом был не очень роскошный: двухэтажное здание с шестью колоннами, в высоту обоих этажей, с балюстрадой, с несимметричными пристройками слева и справа. Был парк. Ленин велел устроить электрическое освещение. Выбрал себе комнату, — вместе спальную и кабинет. В ней был хороший письменный стол, — такой, о каком он мечтал заграницей, с пятью ящиками, — пожалуй, такого у него не было и в Москве: в Кремле он поселился в самом скромном помещении. Другие сановники тоже устроились там скромно, — это было лучше: часто принимали «представителей рабочих, крестьянских и общественных кругов», — те всегда назывались именно «представителями», — так уж повелось с очень давних времен. Зато многие сановники облюбовали себе для отдыха великолепные княжеские подмосковные, — туда «представители» не приглашались. Ленин же исторических подмосковных не хотел. Горки были от Москвы всего в тридцати пяти километрах, люди могли ездить к нему и туда, и он от них не скрывал: да, утомлен, врачи велят отдыхать, как прежде буржуи, ничего не поделаешь.
Ездили к нему и сановники, делали доклады, он слушал внимательно, но с меньшим вниманием, чем прежде, без прежнего страстного интереса, — сам этому удивлялся с очень неприятным чувством. Впрочем, иногда еще приходил в бешенство. Раз, прочитав в газете какое-то заявление Чичерина, с яростью написал в Москву (даже без «совершенно секретно», зато с «очень срочно»): «Отправьте Чичерина в санаторию». Впрочем, это приказание было символическим: надо было, чтобы виноватый народный комиссар понял весь его гнев (иногда и он дружески советовал усталым подчиненным поехать куда-нибудь отдохнуть). Но ему и в голову не могло прийти отправить большевика, даже грешного, в ссылку, в тюрьму или в застенок Лубянки. Такая мысль показалась бы ему дикой: ведь они были не просто какие-то люди, а большевики, его сподручные, помогавшие ему создать партию.
Из посещений сановников ему доставляли удовольствие приезды Пятакова. Его докладами тоже не восхищался и ставил его лишь немногим выше, чем большинство своих сотрудников: почти всех считал болванами и горестно удивлялся тому, что так мало у него настоящих людей. Но лично Пятакова, да еще Бухарина, «любил», хотя и их часто очень ругал. Главное же: Пятаков был прекрасный пианист и, по его просьбе, целый вечер играл ему Баха, Бетховена, Шопена. Он наслаждался, — новую музыку терпеть не мог. Велел прислать в Горки собрания сочинений Пушкина, Некрасова, Толстого, — вероятно, это вызвало в Кремле общее изумление. Читал тоже с наслажденьем и сожалел: наше дурачье так не пишет.
С гораздо меньшей злобой он думал о старой России вообще. Вспоминал свое детство в Симбирске, их дом, Волгу, деревню, и, как всем пожилым, особенно больным, людям, ему казалось, что тогда он был гораздо счастливее, чем теперь. Случалось, приезжавшие к нему гости, осматривали дом и парк, насмехались над дворянчиками-помещиками, угнетавшими до их революции народ. Он хмуро говорил, что сам вышел из дворянства — и не он один. Думал, что не так хорошо живется народу и при них. Этого не говорил, но гости смущенно умолкали.
Иногда он ездил по соседним селам и разговаривал с крестьянами. Расспрашивал их, как они живут. В этом было что-то от прежних либеральных помещиков, и, должно быть, он сам это чувствовал, хотя, как и помещики, верил, что мужики говорят ему правду. Они смотрели на него испуганно, старались угадать, что нужно барину, жаловались на дела, стараясь всё же не слишком поносить бурмистров: еще осерчает. После таких поездок он возвращался домой в угрюмом настроении. Стоявшее в кабинете-спальне трюмо отражало бледное, очень усталое лицо. Он старался не смотреть в зеркало: знал, как изменился и состарился.
То, что голодала прежняя буржуазия, разумеется, могло быть ему только приятно. Нисколько не жалел он и интеллигенцию — она незаметно с буржуазией сливалась, так что иногда и различить было нельзя. Но лишения крестьян были другим делом. И уж совсем тяжело ему было то, что в еще худшей нищете, чем при старом строе, жили рабочие, тот самый пролетариат, о котором он говорил и писал всю свою жизнь. За исключеньем небольшого числа добравшихся до власти выходцев, рабочие действительно помирали с голоду, — прежде эти слова были всё-таки лишь очень хорошим фигуральным выражением в полемике. Разумеется, можно было уверять, что это временно, что скоро они будут жить превосходно. Но их положение всё ухудшалось, и они сами больше в будущий земной рай не верили. Он еще продолжал что-то твердить об исторической миссии пролетариата, но эти слова, вообще означавшие немногое, теперь превращались в насмешку над собой. Вдобавок, выходцы из «рабоче-крестьянской бедноты» на работе оказались не лучше, а хуже чем большевики, вышедшие из буржуазии. Кухарка, оказывалось, не умела править государством.
Экономическую политику пришлось изменить. Он не мог не понимать, что это значило признать свою собственную ошибку: правы оказались враги, — их тем не менее нужно было попрежнему всячески поносить. Разумеется, он, как всегда, посоветовался с Карлом Марксом и, тоже как всегда, Маркс поносил его врагов и очень одобрял «Нэп». Ленин мог думать, что таким же Нэп-ом всё и кончится. Колоссального резервуара потенциальной энергии, открытого в восемнадцатом веке Французской революцией, хватило для очень больших дел — и он привел к религии Наполеоновского кодекса. Такой же религией десятого тома царских гражданских законов, торжеством идеи частной собственности, вероятнее всего, хоть и не скоро, могла кончиться и советская революция.
15 мая 1922 года ему представили на рассмотрение проект нового уголовного уложения, — последний законопроект, который он видел до болезни. Он рассмотрел и внес поправку: надо расширить применение смертной казни за контр-революционную деятельность. — Через десять дней с ним случился удар, правда относительно легкий. У него отнялась правая рука и расстроилась речь.
Переполох в Кремле вышел большой. Люди и прежде, конечно, замечали, что Ильич как будто чувствует себя нехорошо, очень устал. Но слово «удар» всех потрясло: что, если кончен? Что тогда — или, вернее, кто тогда? Начиналась новая эра. Сановники допрашивали врачей и сообща, и порознь. Врачи отвечали скорее уклончиво; говорили, что есть надежда на выздоровление.
Происходили секретные и секретнейшие совещания. Возможные преемники усердно работали в свою пользу. Обсуждались главные кандидаты: Троцкий, Зиновьев, Сталин, Каменев, Рыков, Бухарин. Первых трех все ненавидели, даже многие их «сторонники». Кое-кто втихомолку говорил, что для должности главы правительства не очень удобны евреи и грузины. Быть может, на Каменеве всё-таки сошлись бы. Еще легче на Рыкове. И все понимали: кто бы ни был посажен, падение — после Ленина — будет огромное, очень опасное.
Вождя больше не было. Ленин был всемогущ, перед ним склонялись беспрекословно, почти безропотно: Ильич! Его и прежде некоторые считали гением. Назвал его гениальным и человек противоположного лагеря, царский министр Наумов, просидевший с ним несколько лет на одной гимназической парте в Симбирске. Действовал на людей и гипноз. Теперь большевицкие сановники, кроме Сталина и Троцкого, его боготворили, хотя не было среди них ни одного, которого он, в тот или другой момент, не осыпал грубой бранью. Каменев и особенно Бухарин на заседаниях не сводили с него влюбленных глаз. Теперь предположения (всегда начинавшиеся со слов «если» — если Ильич не поправится) склонялись к тому, что должен править «коллектив». Выбрать несколько человек было много легче, чем выбрать одно лицо, но и это было очень трудно.
Троцкого и в коллектив сажать никто не хотел: да, прекрасный оратор, хороший, хотя и раздутый искусной саморекламой, организатор, но большевик с 1917 года, прежний враг Ильича, честолюбец, фразер, шарлатан, невыносимый человек. Разумеется, он это знал: понимал, что ни в какие коллективы не пройдет, и его злоба всё росла.