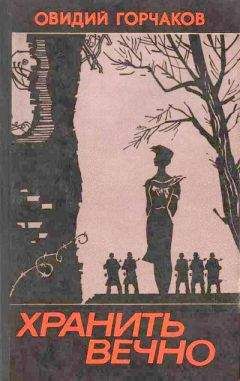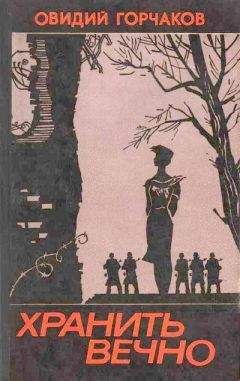Служители «нового порядка» дулись за столом в карты. На столе самовар и пустые бутылки из-под самогона. На стене рядом с «Гитлером-освободителем» засиженный мухами, протабаченный Иисус в фигурном окладе с лампадой. Тощий попик, без рясы, в одежде мирянина, вместо того, чтобы должным образом «пасти стадо Христово», ловко тасовал карты, банковал в «двадцать одно». По его почти спортивной прическе было очень похоже, что святой отец не более года назад был в принудительном порядке острижен под первый номер.
Батюшка и господа миряне — бургомистр и полицейские, завидев нас в дверях, застыли в нелепых позах. Под бородами — затасканные карты. Пиджаки с белыми нарукавными повязками на спинках стульев. Винтовки в углу. Его преподобие подслеповато озирался и, не понимая, в чем дело, машинально сгребал оккупационные марки.
Партия осталась недоигранной. Банк сорвали партизаны, грубо нарушив правила игры. Полицаи бросились было к винтовкам, но тут грохнул партизанский залп. Розовощекая молодуха, приставшая к нам-в надежде разыскать среди партизан своего беглого приймака, нагнулась над попиком, грешная душа которого уже отлетела, и плюнула: «У-у-у! Христопродавец! Сказано: за грех твой кровь твоя прольется!»
Из бумаг попа, найденных нами в его доме, яснее ясного выходило, что покойник был не столько слугой господа бога, сколько верным рабом архиепископа Филофея, духовного архипастыря белорусских националистов. Баламут, прикурив от лампады, напялил смеха ради поповскую парчевую ризу, вооружился крестом и кадилом и, прочитав известную
«проповедь пьяного попа», спрашивал умиравших от хохота партизан:
— В бога веруешь? Горилку пьешь? Истинно партизанская душа!
Но Самарин прекратил представление:
— Брось, Баламут! В деревне верующих полно. Не время сейчас для твоей антирелигиозной пропаганды!..
Я согласен с Самариным. Да, в это кровавое лихолетье опять бредит бог,ом обездоленная Русь, Россия темнолицых старух и сивобородых стариков. В тревожных сумерках тусклым золотом горят в закопченных углах деревенские образа, слабо светят нимбы скорбноглазых святых и великомучеников. В это горькое время мы, безусые безбожники, не боящиеся ни бога, ни черта, начинаем понимать, что не вправе отнимать пусть призрачную, но привычную опору и утешение у наших безутешных дедушек и бабушек, не вправе смешивать их русского бога с немецким богом расстрелянного нами попа.Бойцы разбрелись по селу, чтобы подкрепиться перед боем. Кухарченко дал четверть часа на ужин, расставил часовых, назначил место сбора. Партизан не упускает случая набить пузо до отказа. Налопаться «в запас» — одна из заповедей партизана: кому ведомо, когда вновь приведется вытащить из-за голенища немецкую складную ложку?
Пошарив в печи и кладовой, на чердаке и в подвале опустевшего поповского дома, дозорные быстро и дружно — сказывался двухмесячный опыт — уставили стол вкусной снедью. Щелкунову повезло — он нашел у попа бутылку крепкого мадьярского рома и четверть слабенького церковного винца.
2Когда трапеза подходила к концу, за окнами захлопали выстрелы. По-комариному тонко зазвенело оконное стекло. Ложки выпали из рук, загремели стулья. Щелкунов схватил автомат, выглянул в окно.
— Отбой! Еще кого-то хлопнули.
Дверь широко распахнулась, Богданов переступил через порог, повел носом...
Есть чем подзакусить? Все село облазил — одна бульба везде. Да вы никак?.. А ну дыхни!
Кого там хлопнули? На вот, драченики возьми. А вон шматок сала.
— Парня одного. Козлов опять отличился. Из Могилева, на немцев работал, служащий конторский,— ответил Степан-, запивая копченое сало топленым молоком из крынки.
Опять поторопился Козлов? — насторожился Щелкунов, вытирая губы рукавом неизменной своей телогрейки.
Хлопец этот, как-никак, на фашистов ишачил,— неуверенно проговорил Богданов. — Я б отпустил его на все четыре... Мелкая сошка! Миллионы, поди, наших людей не по своей охоте за немецкие карточки лямку тянут.
— Изменился Козлов за последнее время,— сказал, потемнев, Щелкунов. — Как два разных человека — Козлов и Морозов.
Мы мало смыслим в юриспруденции. Трудно порой разобраться — кто достоин помилования, кто безусловно заслуживает наказания. Время сейчас страшное — может быть, самое страшное в истории нашей родины, борьба идет не на живот, а на смерть. Мы боремся с бесчеловечным врагом. Этот враг взял нас за горло. И мы свято выполняем народный наказ, уничтожая пособников врага. Тысячу раз оправдана наша беспощадность! Но мы давно уже начали понимать, что нельзя хватать через край, нельзя, чтобы щепки, летящие в этой великой рубке, убивали наших людей!
Да, Морозов уже не был тем Козловым, которого мы знали и почитали за честного и храброго товарища месяца два назад. Много обид и унижений выпало на долю этого десантника. Он не забыл ни издевательств полицаев на постах близ Могилева и Пропойска, ни вымаливания куска хлеба у глухонемых окон и запертых дверей, ни слякоть и мерзлоту мартовского леса, голодные дни, тревожные ночи. Как он мечтал тогда, наверное, заполучить в руки оружие, какими только проклятиями не согревал свое голодное и холодное тело!
— Хороший, боевой был парень,— медленно проговорил Щелкунов. — Сердце у него в лесу корой обросло. Зря его Самсонов теперь начальником разведки поставил. Раз мне едва удалось одного окруженца из рук его вырвать. А он истерику закатил. «Я Надьку,— кричит,— не пожалел, а все остальные для меня — семечки!»
Мудрено ли, что Козлов, этот озлобленный неврастеник, ослепнув от ненависти и горчайшей злобы, хватил через край? Мстить, убивать стало для него насущной потребностью. Дурень, сжившийся с врагом,— враг. Надя, любимая им девушка, не выполнившая приказ командира,— тоже враг...
— Больно быстрый он на спусковой крючок. Пойди уследи. Психиатром нас не снабдили. Не устраивать же Юрию Никитичу для него одного Канатчикову дачу,— продолжал Щелкунов.
Да, ненависть Козлова отталкивает, пугает. Нужно быть человеком и в ненависти... Я посмотрел на Щелкунова. Владимир тоже раньше был чем-то похож на Козлова. Оба — нетерпимы, недоверчивы. Но сейчас они разные люди. Почему так получилось? Почему смерть любимой девушки отравила сердце Козлова ненавистью, а. сердце Владимира, ожесточившись против врагов, открылось для большой любви к людям? Почему Козлов попал под влияние Самсонова, а Щелкунов устоял? Все дело, очевидно, в крепком душевном здоровье, в нравственном мужестве! Беда Козлова в том, что он умел ненавидеть, а любить не умел.
— А ты, Богданов, не пробовал с ним говорить? — спросил Щелкунов.
— Что мне, жизнь надоела? — удивился Богданов. — Коли я буду сволочь всякую защищать, то он и меня во враги народа запишет. Я вот думаю, что будет, если Васька Козлов до фатерлянда ихнего дорвется.
Мне кажется, что и его сердце похоронено там, в «аллее смерти», вместе с Надей, под черной ольхой. Он вроде жив — ходит, бегает, говорит, стреляет, даже улыбается, смеется иногда. А внутри у него, на месте сердца,— пусто. Так смертельно раненный или контуженый солдат еще бежит, воюет. Только солдат этот все равно скоро упадет, а Козлов-Морозов будет долгие годы ходить, бегать, говорить с пустотой на месте сердца. Много, наверное, будет таких душевно контуженных после войны...
— Нечего его туда пускать,— буркнул Щелкунов. Такой ни детей, ни женщин не пожалеет. Надо нам, ребята, крепко за Ваську всем взяться.
— Верно, приструнить его надо,— согласился Баламут. — В науку взять.
«Не о том надо бы нам сейчас толковать,— думал я. — Точно забыли все Иванова. Неужели никто не видит, не понимает, что Самсонов убил его — сначала заразил вирусом тщеславия и властолюбия, а потом убил?..»
По селу, прервав трапезу в поповском доме, поплыл вдруг колокольный трезвон.
— Что за набат? — Мы выскочили на улицу. Над одноглавой церквушкой носились перепуганные стрижи.
— Козлов и Турка за упокой архиерейской души звонят!..
— Вот охламоны! Точно на святой неделе раззвонились!
Густой медный звон, недавний расстрел, наш разговор в поповском доме — все это заставило меня взорваться вдруг. Я вцепился в руку Богданова — он стоял рядом со мной у церквушки — и выпалил:
— Слушай, Степан! Да когда же это все кончится? У Кухарченко видели часы и пистолет Иванова! Понимаешь?
Богданов выдернул руку и, весь побагровев, остервенело рявкнул:
— Молчи! — Этим рыком он глушил собственные сомнения и беспокойство. Я отшатнулся от его глаз. Такими же глазами не так давно, ночью, в загайнике, смотрел я на Сашу Покатило. — Не касайся этих дел,— спокойнее выговорил Богданов. — Значит, так надо... Иди догоняй головной дозор!
Баламут и Щелкунов стащили Козлова с колокольни. Козлов размахивал кулаками.