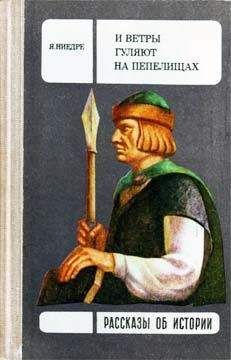— Катеградской ведьминой пляской у нас в Ауле прозвали путь из Литвы в новгородские кривичи, — вставил Степа. — На дороге, что ведет мимо Катеградского замка, перебито людей видимо-невидимо.
— Был в Категраде богатырь Мелуке, — заговорил Миклас. — У него вотчинник Ницин гулял на весенней охоте. Это было еще во времена свободной Герциге. Нынче Мелуке уже нету среди живых, пирует он с предками на холме. А в Категраде правит его младший сын, немецкий прихвостень. Из православной церкви там, говорят, выкинули все чудотворные образа, погасили жертвенные свечи, церковь осквернили. Кому же в католическом Категраде пригодится царьградское Евангелие?
— Уж не боится ли друг Миклас, что в Категраде его опознает кто-либо из приближенных старого Мелуке? — С хитрецой покосился Юргис. — Недаром же бывал Миклас с Ницином на охотах, скакал среди лучников, махал колотушками и трещотками, выгоняя кабанов, оленей, сохатых на правителевы рогатины. И уж, конечно, распевал песни с охотниками, пялил глаза на катеградское серебро, на заморские диковинки, похвалялся дарами, что получал, сопровождая Ницина… Коли опасаешься, что признают, не ходи в замок. А мне туда надо. Приснилось мне минувшей ночью, что я с катеградскими вместе. А сны доносят божью волю, так что уклоняться я не стану.
— Сны несут божью волю, это так, — согласился Миклас. Но что Юргису снилось, спрашивать не стал. Сон что взгляд колдуна. Если не прямо на тебя обращен, а ты напрашиваешься, то можешь накликать себе беду.
«В Категраде проповедовал добрый знаток письма, книжник, обучавшийся в скриптории Софийского монастыря, вспомнились Юргису слова, сказанные писцом епископа полоцкого.
— В ту пору обретался в нашем скриптории божий человек из Киева, — рассказывал писец. — Был он учен повествовать о былых временах, знал летописи о начале Руси, о том, как пришел к нам свет Христовой веры. И нынешний катеградский книжник его слушал, а спустя время был посвящен в иереи. И направился в латгальские края. Было это той осенью, когда князь Ярослав разбил немцев и заставил их убраться в свои берлоги. Катеградский книжник — светлого ума муж».
«Светлого ума муж…» — Юргис ласково коснулся шеи своего скакуна, кивнул Микласу со Степой и, ведя коня под уздцы, двинулся в избранном направлении.
«Катеградский книжник этот, может статься, и мудрец, и провидец. И раскроет тайну герцигского Висвалда. Даже если катеградские к господскому столу больше не зовут, людей книжного разума всегда берегли и сильные и богатые и в тех краях, где восходит солнце и где оно заходит. Таким людям ведомы все праведные слова, а слова эти, как сказано в писании, от бога».
— Слышишь, попович? — окликнул его Миклас. — Впереди птица кричит. Знак подает.
— Какой?
— Чтобы держаться настороже. К Темень-острову мы пробирались украдкой, а нынче скачем, как олени в гон.
— Олени в гон бегают быстро, — согласился Юргис. Однако его заботило другое. — Надо мне повстречать катеградского книжника.
— Кто поручится, что ты его встретишь? У заморских крестоносцев один Христос — латинский. Как же может при них православный священник уцелеть?
— Книжник — это значит и колдун, вещун? — спросил Юргиса Степа.
— Книжник — куда больше. Ему ведомо знание огня, воды, земли и воздуха. Ему ведомо ближнее и дальнее, и о богах, и о людях. Он расскажет тебе, что велико и что ничтожно. Объяснит, что хранит жизнь и что уберегает от зла.
— Стало быть, он ведун и знахарь?
— Знахарь не знахарь, а, наверное, ведун, раз понимает то, что узнали другие, с кем он далее не встречался, кто жил в другие, неведомые времена. И понимает, и рассказать может, как говорил бы тот, кто написал книгу, говори он с тобой.
— А свои берестяные и кожаные свитки тоже хранит в корзине или в ларе, как Ожа с Темень-острова?
— Не в корзине, Степа, и не в ларе. Книги ценнее серебра вотчинников, и готландских тканей, и изделий чужеземных мастеров. И хранят их в местах, укрепленных не хуже, чем крепости и замки: в монастырях, кладовых, в каменных амбарах, и доступ к ним имеют лишь те, кто дал обет служить божьей правде и добру. Это люди, чье сердце чисто, как ключевая вода, как солнечный луч. Книжное письмо — не узоры бабушки Ожи, не крестики, уголки и извивы, а увековеченные слова. Сгинет березовая колодка, истлеет береста, записанное слово будет переходить из поколения в поколение. Не зря говорится: человек с книгой — сродни божеству.
— Если бы Степа попросил, Юргис позволил бы ему заглянуть в такую книгу?
— Позволю. Если будешь жить с чистым сердцем.
— Я буду.
* * *
В катеградской земле полочане едва не остались без коней. Обойдя стороной поселок на берегу озера, проехав по дороге, где топкие места были укреплены жердями, они сделали привал на лужке, подле речки. Пекло, как в овинном ямнике, неисчислимые слепни и оводы лезли в ноздри, кусали, жалили, впивались в кожу, словно прудовые пиявки. Кони взбрыкивали, встряхивались, и только потом успокоились и стали щипать траву в тени ольшаника. Путники, укрывшись под деревом, грызли, утоляя голод, вареные, но изрядно уже высохшие бобы. Вдруг у речки, за кустами, затрещало, хрустнул сук, плеснула вода. Полочане живо повскакали и кинулись в стороны — вслед им из зарослей вылетела брошенная невидимой рукой веревка с петлей.
— Воры! — Миклас схватил боевой топор и прыжками понесся вниз. Навстречу ему из кустов вылетела стрела, ударила в плечо и застряла в кольчуге. Ноги Микласа подогнулись, казалось, он сейчас упадет. Но только мгновение: опытный воин устоял и, стискивая топорище, кинулся дальше:
— Изрублю! Растопчу!..
— Растопчем! — не отставал от него Юргис. Вот прозвенела в ольшанике и стрела, пущенная Степой из Юргисова или Микласова лука.
Напавшие не собирались продолжать бой. Протрещали кусты, и две пригнувшиеся фигуры, рыжие словно муравьи, скрылись в зарослях на том берегу.
— Улепетнули! — проворчал Миклас. — Ладно что двое, а не шайка. Надо думать, из грабителей. Не у всякого конокрада под рукой стрелы с калеными наконечниками.
— Скажи спасибо, что в кольчуге. — Юргис отшвырнул чужую стрелу. Степа внимательно разглядывал брошенную теми двумя веревку. Наверное, что-то в ней углядел.
— Пеньковая, свитая туго, в шесть прядей. С двойной петлей, Накинут такую — не высвободишься. В здешних местах так не вьют.
— Такие у иноземных корабельщиков водятся. — Миклас свернул веревку в кольцо (не оставлять же добрую вещь валяться!). — Гляди-ка, тут узел, где срастили две пряди, не такой, как у нас. Такие я видывал на канатах варингов, в снастях их кораблей, когда приставали они в Герциге, у городского торжища.
— Как знать, может и эти — заморские? — размышлял Степа. — Не пробежать ли по их следу? Я мигом, как горностай по снегу.
— Пускай сбегает, — сказал Миклас Юргису. — Вызнать бы не худо.
Он отошел к кустам, сломал две ветки, Юргису и себе: отгонять кровососов. Коней выгнал пастись на середину лужка.
Степа вернулся не скоро, и вовсе не с той стороны, куда уходил. Бежал бегом, запыхался. В руке он держал палку, вроде бы обломок посоха необычного вида. Из черного, словно мореного в иле дерева, с вырезанными крестиками и зигзагами.
— Там… по ту сторону Озера — ров… Бесовы ямы, — переводя дыхание, стал рассказывать Степа, — Полные костей… Доверху… У одной ямы на краю — конская голова, и в лоб ей вбит железный шип. А на площадке над откосом к столбу привязан человек, объеден зверьем и муравьями. На шее у него цепочка с православным крестиком, где бедра были — остатки пояса с медными бляшками. И эта палка сломанная там валялась… Надо думать, говорящий посох, какие бывают у гонцов. В Аулу прискакал однажды вестник из Кокнесе, и у него была похожая.
— Церковный посох. Пастырский, — сказал Юргис.
«Зарница в небесах, зарница в той стороне, куда солнце садится, предвещает невзгоды… — про себя произнес он. — Сполохи сулят беду. Сполохи предупреждают людей: спасайтесь! При красном огне в облаках человеку надлежит держаться тихо, как птенцу, когда матери нет близ гнезда. Со страхом ожидать, что свершится…»
Почему подумалось вдруг про сполохи! Ни в Полоцке, когда собирался на родину, ни в пути, ни на Темень-острове он их не видел. Мысль о сполохах настигла Юргиса внезапно, как удар в подложечку. Война сполохов запала ему в память с детства. С того раза, когда в вечерней тьме над Ерсикским холмом полыхало в небе и вихрем мчались облачные всадники. Тогда все вокруг, и его матушка тоже, стенали и крестились и призывали всех церковных святителей, а также матерей Дома, Полей, Вод, Мать «Старых», духов зверей и змей.
Сейчас не летит по ветру пламя войны, как во времена детства, когда к воротам Ерсики, вынырнув из-за развешанных Матерью Туманов полотнищ, прискакали закованные в железо всадники, рубившие и коловшие всякого, кто попадался на пути. Сейчас не воют на пепелищах по убитым хозяевам оголодавшие псы. Не веет сейчас и гнилостным запахом изо рта Носительницы Мора, от которого падают без памяти люди и скотина и даже листья свертываются и облетают с деревьев. И однако Юргис ощущал подавленность и бессилие, и это пугало его.