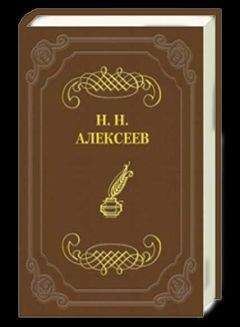Не замедлил узнать об этом и Андрей Григорьевич Свияжский. Когда ему передавали случившийся факт, он глубокомысленно хмыкнул, и на лице его появилось озабоченное выражение. Дня через два он сказал сыну:
— Гм… Ты, Николай, кажется, пристроил куда-то этого, как бишь? Ки… Кисельникова?
— Да. Он живет у Лавишева.
— Ты бы, знаешь, привез его к нам на дачу. Молодой человек, одинокий… Надо о нем позаботиться, поддержать. Вообще, так сказать, помочь.
«Вон оно куда поехало! Что значит разговор-то с государыней!» — подумал не без иронии Николай и ответил:
— Хорошо. Я его уговорю. А вы, батюшка, разве им очень интересуетесь?
— Ну, «очень интересуюсь» — сильно сказано. Что же мне в нем интересного? Но у меня доброе сердце, просто хочется помочь сыну моего старинного друга и однокашника.
Николай Андреевич уговорил, хотя и не без труда, юного провинциала поехать к Свияжским.
Андрей Григорьевич встретил Кисельникова очень радушно, был чрезвычайно мил, любезен, шутил, вспоминал годы, проведенные в шляхетском корпусе с его отцом, и детские проказы, одним словом, показал себя душой-человеком.
Кисельников не верил ни своим глазам, ни ушам. Он еще не познал на опыте, что успех значит все в свете, и наоборот, неудачник оказывается уже тем виноватым, что ему не повезло.
Посетив раз Свияжских, Александр Васильевич побывал и второй, и третий, постепенно освоился с тамошним обиходом и мало-помалу сделался у них почти своим человеком. Он приглядывался, вдумывался и пришел к заключению, что было что-то натянутое, неестественное в отношениях между собой членов этой семьи.
Верховодила в ней, несомненно, вторая жена Свияжского. Надежда Кирилловна была женщиной лет тридцати пяти. Высокая, стройная, с живым взглядом черных глаз, она могла называться красавицей. Было что-то жесткое в чертах ее лица, напоминавшего лицо римских матрон: изящный, но резко очерченный подбородок свидетельствовал о твердой воле, тонкие, подвижные ноздри выдавали страстную натуру. Быть может, физиономист сказал бы про нее, что эту женщину опасно иметь врагом, что она едва ли станет разбирать средства, когда захочет достигнуть цели, к которой пойдет неуклонно и неустанно, либо достигнув ее, либо погибнув, но не отступив. Когда она в минуты раздражения сдвигала тонкие, бархатные, темные брови и в ее глазах загорался огонек, ее лицо становилось грозным, почти страшным.
Ольга Андреевна, падчерица Натальи Кирилловны, представляла полную противоположность ей. Это было нежное, эфирное существо. Детскою чистотою веяло от несколько мечтательно-грустного взгляда ее васильковых глаз. Вся ее небольшая, стройная фигура казалась хрупкой, не от мира сего, с прелестного личика, обрамленного волною золотистых волос, можно было рисовать ангела. Но около губ иногда чуть намечались две складочки, говорившие, что Ольге не чуждо упорство, когда оно потребуется.
Из числа многочисленных посетителей Свияжских выдавались двое, считавшиеся почти своими людьми у них: это был князь Семен Семенович Дудышкин, поручик конного полка, и капитан одного из армейских полков петербургского гарнизона, Евгений Дмитриевич Назарьев.
Князя Дудышкина, при всей своей незлобивости, Киселышков терпеть не мог. Князь был широкоплечим малым с веснушчатым лицом, которое он, чтобы скрыть этот недостаток, довольно густо белил и румянил. Мундир сидел на нем безукоризненно, на толстых, чувственных губах всегда играла улыбка. В его манерах чувствовалась вкрадчивость, смех звучал деланно, темные глаза смотрели и холодно, и лукаво. У этого человека могли возникнуть пылкие страсти, но едва ли его душа была доступна высоким чувствам. Опытный человек при внимательном взгляде открыл бы в нем актера, постоянно, но не всегда тонко, играющего раз навсегда заученную роль.
Кисельникова раздражало самодовольство князя, влюбленность в себя, его деланность и высокомерно-покровительственный тон, которым Семен Семенович говорил с ним. Насмешливые взгляды, а порою и намеки Дудышкина раздражали молодого провинциала, и часто грубый ответ готов был сорваться с языка юноши, но он сдерживал себя из уважения к дому, где происходили его встречи с князем. В глубине души он презирал Дудышкина, так как слышал, что тот кутила, развратник, содержащий целый гарем из своих крепостных красавиц, плохой товарищ и человек, умеющий строить свое благополучие чужими трудами да связями с лицами власть имущими.
Не нравилось молодому провинциалу также и то, что Дудышкин фамильярно обходился с Ольгой Андреевной; казалось, что он словно имеет права делать это.
Как-то уходя от Свияжских, Александр Васильевич спросил подававшего ему плащ лакея:
— Что, князь Дудышкин, кажется, часто здесь бывает?
— Да, как же. Они ведь на линии жениха, — ответил лакей и почему-то вздохнул.
«Бедная!» — подумал Кисельников про Ольгу, и не то змейка ревности, не то чувство обиды за нее шевельнулось в нем. Между молодым «дикарьком» и светской девушкой, в качестве фрейлины императрицы знакомой со всей роскошью двора, установились странные отношения. Они очень быстро сдружились. Квсельников смотрел на молодую Свияжскую как на сестру, поверял ей некоторые свои заботы, огорчения и радости, а она относилась к нему как к младшему брату, потому что в смысле житейской опытности и знания людей и света куда превосходила юного провинциала. Иногда, когда у Ольги было слишком тяжело на душе, она слегка откровенничала с Александром Васильевичем, быть может, инстинктивно угадывая в нем друга, на которого могла положиться, человека хотя и неопытного, юного, но с сильной волей и твердым духом.
Как-то однажды, по уходе князя Дудышкина, у нее вырвалось восклицание:
— Вот противный человек!
Кисельников просиял.
— Противный? — заметил он простодушно. — А ведь говорят, что он — ваш жених.
Ольга Андреевна вспыхнула, и ее глаза блеснули.
— Он — мой жених?! Да я лучше умру, чем выйду за него замуж.
— Верно! Так, так! — проговорил с чрезвычайно довольным видом Александр Васильевич.
Если бы его спросили, почему он так доволен, юноша, вероятно, сам не мог бы ясно определить. Он вовсе не был влюблен в Ольгу Андреевну, хотя иногда, в мечтах, ее прелестный профиль и заслонял миловидное личико соседки Полиньки, оставленной за несколько тысяч верст от северной столицы; Кисельникова просто радовало, что «этот ангельчик» не достанется «тому черту». Отчасти сюда примешивалось и злорадство по отношению к Дудышкину. Князь по своим связям и, быть может, более кажущемуся, чем настоящему, богатству должен был считаться хорошей партией, однако тут ему предстояло остаться с носом.
Кроме Ольги Андреевны и, конечно, Николая Андреевича, был еще один человек, с которым Кисельников сошелся если не дружески, то очень по-приятельски. Это был второй из завсегдатаев Свияжских, армейский капитан Евгений Дмитриевич Назарьев.
Капитану было лет тридцать с небольшим. Он был хорошо сложен, худощав и коренаст. Черты лица он имел не совсем правильные; было что-то жгучее, завлекательное в матово-прозрачном цвете его кожи; когда он улыбался, сверкая белыми, как слоновая кость, зубами, то становился обворожительным, тем более что глаза — темные, большие и глубокие — сохраняли задумчивое, почти печальное выражение.
Есть люди, на которых словно самой природой наложена печать обреченности на горе и страдания. У них уже в детстве сквозит что-то скорбное во взгляде, какая-то странная печаль, даже в минуты беззаботного оживления. К числу таких людей можно было отнести и Назарьева.
Однако это не значит, что он ходил вечно хмурым, меланхоличным. Напротив, в обществе он умел держать себя непринужденно, мог быть весел, шутил, смеялся, но роковая печать несчастья не оставляла его даже в моменты самого кипучего веселья. Она сказывалась в звуках его странного смеха, как будто насильственного, в трепетных, робких искорках, зажигавшихся в его умных глазах. Едва ли он сам знал о персте судьбы, которым был отмечен; он считал себя обыкновеннейшим смертным. Зато другие инстинктивно чувствовали в нем далеко не заурядного человека.
Этими «другими» были преимущественно женщины. Армейский офицер, сын захудалого помещика, обладавшего всего десятком душ крестьян, маленький ростом и хотя приятный лицом, но вовсе не выдающийся красавец, Назарьев был кумиром женщин. Они летели к нему, как мотыльки на огонь, и очень многие из них обжигали себе крылышки!
По отношению к ним Назарьев был отчасти жесток. Он поддавался временной страсти, потом остывал и без сожаления не только расставался, но просто отталкивал надоевшую ему любовницу. Ни мольбы, ни слезы жертвы его то ли темперамента, то ли загадочной наружности не помогали. И много проклятий среди мучительных рыданий обрушивалось на голову Назарьева. Однако они мало смущали его.