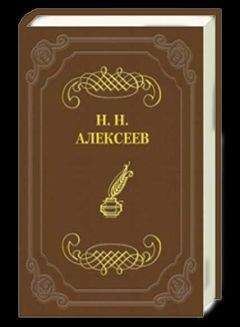Но… конь на четырех ногах, а и тот спотыкается. Довелось споткнуться и Евгению Дмитриевичу. Общий кумир, для которого победы над женскими сердцами не составляли труда, он сам безумно влюбился.
Это было могучее чувство, всецело захватившее Назарьева. Он, испытывавший ранее только мимолетные вспышки пародии на привязанность, не узнавал себя, изумлялся и положительно терял голову.
Видно, у него на роду было написано иметь успех в любовных делах: Назарьев вскоре убедился, что девушка, которую он полюбил, платит ему взаимностью. Он был на седьмом небе от счастья, но рассудок обдавал холодом его душу. Ничего подобного его прежним любовным интригам здесь не могло быть; Назарьева коробило при мысли создать из своей глубокой привязанности, скованной, так сказать, из лучших движений сердца, мимолетную связь, маленький эпизод холостяцкой жизни; даже мысль об этом была бы оскорблением для той, которая полюбила его и которую он боготворил. Он понимал и страстно желал этого, однако результатом в данном случае могло быть только единение на всю жизнь — брак. А подобный брак казался маловероятным, поскольку общественное положение любимой девушки и Назарьева было слишком различно.
Для пояснения достаточно сказать, что предметом любви бедного армейского капитана была дочь богача, его превосходительства действительного статского советника и многих российских орденов кавалера Андрея Григорьевича Свияжского.
Ольга Андреевна не могла отдать себе отчет, почему она полюбила Назарьева. Бывая при дворе, она частенько знакомилась с красавцами, слава о которых гремела по всей Европе или наиболее блестящим королевским и императорским дворам, но оставалась равнодушной к их красоте. И вдруг скромный армейский офицер, не видный по фигуре и далеко не красавец лицом, завладел ее сердцем безвозвратно, беспредельно. Ольге нравились задумчивый взгляд Назарьева, его речи, полные задушевной тоски и непохожие на светскую болтовню изящных щеголей, его оригинальность, так сказать, выделяемость и несходство с окружающими. Он заинтересовал молодую Свияжскую, а потом нахлынуло какое-то пламя, захватившее ее. И когда в знойный майский день Назарьев, сидя с Ольгой в тени полураспустившейся яблони, вдруг взял ее руку и зашептал о своей любви, она не сделала негодующего лица, не убежала от него; она только дрогнула всем телом, понурила прелестную головку, и на его вопрос, заданный дрожащим, умоляющим шепотом: «А вы… Я вам не противен?.. Может быть, вы… когда-нибудь полюбите… меня?», побледнев, положила ему руки на плечи и ответила твердо, глядя прямо в его глаза: «Я вас люблю». Прозвучавший поцелуй был началом новой жизни для влюбленных.
Конечно, Александр Васильевич не мог проникнуть в тщательно скрываемую от постороннего глаза тайну Назарьева и Ольги Андреевны; не подметил он также и искрометных взглядов, которые иногда кидала на Евгения Дмитриевича молодая супруга старого Свияжского, и как по временам чуть-чуть хмурились ее темные бровки и недобрая морщинка прорезала лоб. Это бывало в особенности тогда, когда Надежда Кирилловна заставала падчерицу и капитана оживленно беседующими.
Не заботясь ни о каких тайнах, Кисельников часто и долго беседовал с Назарьевым, так как капитан, во-первых, умел всегда завести разговор далеко не пустой, а во-вторых, никогда не отказывал юноше в дельном совете. А эти советы опытного военного служаки являлись для Александра Васильевича настоятельной необходимостью, потому что в его судьбе произошла радикальная перемена.
У графа Григория Григорьевича Орлова был приемный день. В большом зале, отведенном для лиц, имеющих необходимость видеть бывшего шталмейстера конной артиллерии, а ныне влиятельнейшего человека в империи, брата фаворита императрицы Екатерины, сидели или нервно прохаживались военные и гражданские сановники, то и дело посматривая на тяжелую резную дверь графского кабинета. Она довольно часто приотворялась, выпуская поговорившего; из-за нее выглядывала голова адъютанта в пудреном парике с крупными буклями, и он произносил только одно слово: «Пожалуйте!». Вслед за этим кто-нибудь из ожидавших быстро поднимался, одергивал форменный кафтан и, провожаемый взглядами остающихся ждать очереди, тихо проскальзывал в дверь, тотчас же захлопывавшуюся за ним.
Большинство волновалось, так как предстояла серьезная беседа, но выражения робости не было на физиономиях: все знали, что граф добр и если откажет, не найдя просьбы подлежащей исполнению, то, во всяком случае, не оскорбит и не обидит. Может быть, он ответит напрямик и грубовато, но скрасит свой отказ добродушной улыбкой или кинутым вскользь дружеским замечанием.
В числе ожидавших находился и Андрей Григорьевич Свияжский, имевший надобность повидаться с Орловым по каким-то своим комиссариатским делам. Он был во всех регалиях и имел торжественный вид. Графа он знал давно, еще в то время, когда Григорий Григорьевич был простым артиллерийским офицером, славившимся своею силою, отвагою, мальчишескими проказами, красотою и кутежами. Братья Орловы бывали у Свияжского в доме, и сам он запросто был принимаем у них как старый знакомый, но все же, когда старику приходилось с Григорием Орловым говорить о делах, он чувствовал какую-то жуть от упорного, открытого взгляда красивых глаз графа, и потому деловые визиты к графу были для Свияжского очень тягостны.
Сегодняшний же визит усугублялся тем обстоятельством, что, помимо доклада, Андрей Григорьевич намеревался обратиться к Орлову с просьбой.
Дело в том, что он решил принять участие и помочь Александру Васильевичу, пока имя елизаветградского провинциала еще не поросло травою забвения и было на многих устах. Хлопотать теперь было, по мнению опытного в житейских комбинациях старика, и удобнее, и полезнее для него самого, для Свияжского: он знал, что присоединить свою личность к более или менее замеченному человеку бывает часто небезвыгодно.
Разговаривая с каким-то вельможей, сверкавшим орденскими звездами, но ожидавшим с кротостью агнца очереди войти в заветный кабинет, Свияжский, черед которого наступил, ожидал нетерпеливо и беспокойно легкого шума отворяемой двери.
Послышался слабый скрип петель. Стуча каблуками, громыхая палашом, вышел и удалился, не глядя ни на кого, какой-то кавалерийский полковник, взволнованный, красный как из бани, но улыбающийся. Затем раздалось долгожданное: «Пожалуйте!». Свияжский встрепенулся и, прервав на полуслове беседу со звездоносцем, быстро семеня ножками и приняв сладосто-почтительный вид, прошел на аудиенцию первого из вельмож российских.
Широкоплечий, краснощекий красавец, не вставая с глубокого, покойного кресла, приветливо кивая, протянул ему красивую, но огромнейшую длань, способную, казалось, одним ударом уложить быка.
— Садись, Андрей Григорьевич, — мягким баритоном проговорил Орлов, указывая на ближайший стул. — Рад повидаться с тобой. Верно, доклад притащил? Ох, уж эти мне доклады! — Орлов поморщился и потер шею.
— Докладик небольшой на сей раз, ваше сиятельство, — сладко заговорил старик, пустив во все лицо лучезарнейшую улыбку. — Очень даже небольшой. В один момент! — И он, осторожно присев на стул, быстро и сжато изложил содержание доклада.
Григорий Григорьевич слушал рассеянно. Когда Свияжский замолчал, он, пристально глядя в глаза старого дельца, отрывисто спросил:
— Поди, половина здесь вранья?
Андрей Григорьевич беспокойно зашевелился.
— Как можно, ваше сиятельство! Вранью разве тут место? — забормотал он скороговоркой. — Разве посмеем?
— Ну ладно! Давай, подпишу. — И, сильно налегая своей могучей рукой на мягкое и притуплённое гусиное перо, Орлов, брызгая чернилами, жирно вывел: «Гр. Орлов». Потом, присыпав песком, уложил бумаги в синюю папку и проговорил, откладывая их в сторону: — Завтра дам на подпись императрице. Заело поистине меня ваше многобумажье! — добавил он со вздохом.
Прием, в сущности, был кончен, Андрею Григорьевичу оставалось только откланяться и уйти. Но он медлил сделать это и маялся на стуле, пытливо посматривая на графа.
Орлов заметил.
— Андрей Григорьевич! Что-то у тебя есть еще сказать мне? — проговорил он.
— Да! Ежели бы минуточку вашего драгоценного времени. Прибыл в Санкт-Петербург сын елизаветградского помещика Александр Васильевич Кисельников. Может быть, ваше сиятельство изволили слышать?
— Кисельников? Кисельников? Из Елизаветграда. Постой! Да ведь об одном Кисельникове велела мне напомнить государыня. Он из реки кого-то спас.
— Это он самый и есть.
— Знакомый он тебе?
— Отец его — мой однокашник, а отчасти и родственник… Правда, дальний очень, но все же…
Теперь Свияжский не затруднялся признать свое родство с Кисельниковым.