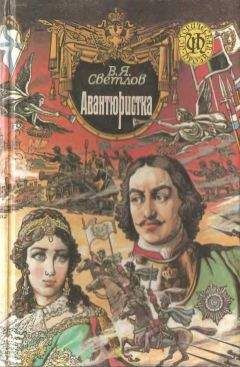Он снова налил ей кубок.
У нее не было уже сил сопротивляться ему. Она покорно поднесла кубок к губам.
Сознание еще не покидало ее, но тело уже обессилело.
Смутно чувствовала она в этой настойчивости царя что-то недоброе и опасное; но теперь она уже не могла ясно отдать себе отчет в этом и не могла понять, что приближается к западне, расставленной царем.
Мало-помалу она утеряла представление о времени и о месте. Думала она одно, уста произносили другое. Она с изумлением прислушивалась к тому, что лепетал ее язык.
— Зачем они здесь? — говорила она.
— Кто? — спросил царь, наклонившись к ней.
— Они… эти… Телепневы…
— А что?
— Убери их… я не хочу… Им не место здесь. Не хочу, не хочу, пусть уезжают… Они все ведь знают… все.
— Все? — спросил ее царь.
— Все.
— Но что же знают они?
Она вдруг лукаво засмеялась.
— Ишь какой! Ты думаешь, я пьяна? Нет, гос… государь… Я, брат, ничего… И даже еще могу выпить… Лей…
— Да ну? Пей, Машенька, пей!
Он налил ей в кубок самого крепкого вина и подсел к ней ближе.
Телепневы не могли прийти в себя от изумления. Борис Романович, собиравшийся по приезде в Петербург открыть царю глаза на истинную историю Марьи Даниловны, которую он больше чем когда-нибудь ненавидел, несмотря на то, что она послужила косвенным образом его счастью, не знал теперь, что делать, и был очень смущен…
Среди гула возгласов, под звуки неистового смеха и песен, царь вполголоса разговаривал с Марьей Даниловной:
— Не выпить ли нам за здоровье Орлова? — тихо сказал он ей, и в его глазах загорелся суровый огонек.
— Орлова? Почему именно Орлова?.. Ах… да! Налей, выпьем!
— Он тебе нравится?
— Орлов? Я люблю… его.
— А! Ну так выпьем…
Петр вдруг, наклонившись к самому уху Марьи Даниловны, шепнул ей.
— Правда ли, Машенька, что ты убила Стрешнева?
Марья Даниловна вздрогнула, отшатнулась от царя, широко раскрыла свои испуганные глаза.
Но это был лишь мгновенный и кратковременный проблеск сознания.
Тотчас же впала она в прежнее состояние и, захохотав, ответила:
— А, конечно, убила…
Она закрыла глаза.
Инстинкт самосохранения боролся в ней еще с опьянением. Но смех, непрошенный смех, редкий, отрывистый, странный, овладел ею…
— Разве ты не знал этого? — говорила она. — Разве не ты помогал мне в этом? Или кто другой? Нет, ты, конечно, ты… Так что же ты спрашиваешь? Да ты кто?.. Цыган?
— Цыган.
— Ну, вот видишь. А еще спрашиваешь.
— И детей своих ты тоже убила?
— Ах… их тоже! Ты все знаешь… Что ж ты пристаешь ко мне? Ты ведь цыган?
— Цыган.
— Ну так ты еще, пожалуй, царю скажешь.
— А ты боишься царя?
— Я не люблю его.
— Вот как! А кого же ты любишь?
— Того… как его?.. Молоденького… Орло…
Она не могла окончить своей отрывистой речи. Тяжелая рука царя опустилась на ее рот.
— Молчи, — сказал он ей сурово, и его черные глаза загорелись. — Люди! — закричал он громовым голосом, обращаясь к прислуге. — Взять тотчас эту женщину и отнести ее на кровать в ее комнату… Пока не отведут ее на плаху.
Царь тотчас же уехал.
Часть гостей ничего не заметила и продолжала пировать как ни в чем не бывало, но Телепнев и Наталья Глебовна сидели бледные от ужаса. Они слышали слова царя, и теперь глядели на опустелое перед ними место.
Телепнев крепко сжал руку жены…
— Итак, кара Божия наступила для сей преступной женщины, — прошептал он.
Несколько времени спустя пришедший наконец в себя благодаря оттираниям свояченицы Меншиков бегал уже беспокойно по палате и спрашивал у всех, где царь.
Но никто не мог ему ответить в точности.
Тогда он сильно обеспокоился…
Он смутно помнил, что здесь что-то готовилось, что-то должно было совершиться, но что именно, не мог тотчас припомнить.
И вдруг мысль осенила его…
— Да где же Марья Даниловна Гамонтова? — спросил он одного из слуг, и тот сказал ему, что произошло.
Меншиков подошел к столу, наполнил до краев пустой кубок, попавшийся ему под руку, и залпом выпил его…
Марья Даниловна лежала на кровати.
Чуть брезжил рассвет осеннего мутного петербургского утра. Мелкий дождь барабанил в окна, и небо, казалось, плакало беспомощными, больными слезами, такими, какими бы заплакала она сама, если бы могла плакать.
Но она не могла плакать.
Что-то мрачное и тяжелое, давящее, ползло по ее уставшей душе и сжимало ее сердце…
Она чувствовала себя больной и разбитой. Голова ее горела, как в огне, и сильно болела.
Как ни напрягала она усилия своих воспоминаний, ничего точного, ничего определенного она не могла вспомнить…
Что произошло вчера вечером? Помнила она, что приехала к Зотову, что ей нездоровилось, что она сидела за столом и много пила. Но почему она много пила, кто ее побуждал к этому, что было потом — она ничего не знала.
Порой перед ее умственным взором вставал образ царя. Понемногу вспомнила она, как они сидели рядом, как они пили, как он что-то шептал ей…
Но затем все заволакивалось туманом, и сознание отказывалось ей служить далее.
Она хлопнула в ладоши, и в комнате появилась Акулина.
— Поздно ли я вернулась вчера домой? — спросила она.
Акулина смешалась, потупила взоры и, видимо, не решалась ответить.
— Что с тобой? — спросила ее Марья Даниловна. — Говори же!
Но Акулина вдруг заплакала.
Марья Даниловна вздрогнула…
— Что случилось? Говори скорее! — спросила она испуганно.
Акулина тогда рассказала ей:
— Тебя привели под руки два лакея. Несчастье, сударыня, у нас в доме, ой, какое несчастье!
— Какое?
— У дверей твоих апартаментов поставлена стража.
— Стража! Зачем?
— Не ведаю про то. А только никого к тебе допускать не велено. И говорят, сие по указу царскому.
И точно молния сознание прорезали воспоминания Марьи Даниловны…
Разом точно выплыли из тумана все подробности вчерашнего происшествия. Она вспомнила и царские речи, и свои ответы.
Ей стало холодно, и она закуталась в пушистое покрывало.
Дрожь била ее тело.
— Так вот что! — промолвила она. — Я проговорилась… Царь нарочно напоил меня!
Она чувствовала, что настали ее последние дни. Черное прошлое вставало перед ней грозным тяжелым призраком.
Всю жизнь она боролась с этим прошлым, всю жизнь старалась заглушить в себе мрачные воспоминания о своих преступлениях и, когда, казалось, она достигла высокого положения, почета, все всплыло наружу, и вот она, как прежде, низвергнута в прах и поставлена лицом к лицу со своим прошлым.
Кара близится. Жертвы ее требуют отмщения. Возмездие вопиет к небу!
Душа ее устала бороться. Что делать? Уступить? Сдаться, покориться?
Но нет, не таков нрав у нее! Она будет еще бороться, будет бороться до последнего издыхания, до последней капли жизни. И пусть это ни к чему не приведет, но она не сдастся, не положит своей головы под плаху без борьбы.
Еще надо доказать, что она виновна…
За дверью послышались шаги, мягкие и вкрадчивые… Она подумала сначала, что это шаги царя, но потом, прислушавшись, сразу узнала их.
Это были шаги Меншикова, ее злейшего врага, очевидно, предавшего ее.
Дверь отворилась, и на пороге показался действительно Меншиков.
Лицо у него было свежее, несмотря на вчерашнюю попойку, и веселая довольная улыбка блуждала около его губ.
— Здравствуй! — кивнул он ей головой. — Вышли, пожалуйста, свою девку, мне нужно сейчас говорить с тобою.
Она велела Акулине выйти.
Меншиков взял кресло, подкатил его к кровати и внимательно взглянул на Марью Даниловну.
На лице ее уже не отражалось ни малейшего беспокойства.
Она быстро, заслышав еще шаги князя, постаралась стереть с лица все слезы ужаса за свою судьбу, и оно было теперь ясно, как солнечный весенний день.
Меншиков опустился в кресло и беспокойно задвигался… Уж чего доброго не помирился ли с ней царь, не простил ли ее? Но нет, ему известно, что со вчерашней ночи никто не входил к ней в комнату.
«Это гордость ее сатанинская», — подумал он с озлоблением.
— Что тебе нужно, что ты пришел ко мне, даже не дав мне встать и одеться? — сурово спросила она его, чтобы овладеть первой разговором.
— Ведомо ли тебе, что царь приказал предать тебя на суд? — спросил ее Меншиков.
— Добился-таки своего, Данилыч, — сказала она.
— Добился-таки, Даниловна, добился! — ответила он ей в тон.
Она облокотилась на подушки и посмотрела на него прямо в упор.