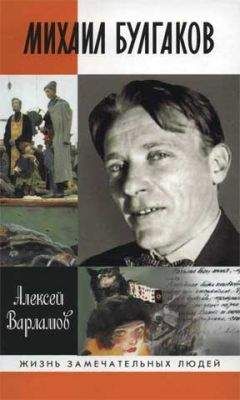Луначарский буквально вымаливал у Сталина запрет измотавшей его пьесы. Сталин же тянул, а слухи по Москве ходили самые разнообразные. 23 марта 1929 года Пришвин записал в дневнике: «Писатели-„попутчики“ собираются идти к Сталину жаловаться на пролетарских писателей: Beресаев, Иванов, Пильняк, словом, все. И меня приглашают. Тихонов говорит, что если так оставить, то пролетарии уничтожат остатки литературы. Так, стали уже запрещать имена, замечательное исследование о Щедрине Иванова-Разумника запретили, не читая его, только за имя. Клычков запрещен. И в самом деле, завтра кто-нибудь „раскроет“ меня и тоже запретят. По-видимому, надо идти, хотя лучше бы отдаться на волю судьбы. Дело в том, что у писателей храбрость явилась не без основания: по некоторым признакам Сталин расходится с пролетариями в оценке литературы. Так, напр., на требование украинских писателей снять пьесу Булгакова он ответил: „Зачем снимать, Булгаков показывает такое, что и нам полезно знать“» [25; 292–293].
Пьесу тем не менее сняли как раз в те дни, когда Пришвин сделал свою жизнеутверждающую запись, но мысль «певца русской природы» представляет интерес и в более широком контексте:
«Такое жалкое положение: литература припадает к стопам диктатора. Надо крепко подумать, – надо ли это. Завтра его не будет, и кому пойдет жаловаться литература? Можно выступить в защиту, напр., книги Иванова-Разумника – это можно.
Решение: перед походом к Сталину уговорить писателей действовать в отношении определенных фактов и представить Сталину, что если нет – все мы отказываемся обслуживать периодическую современную прессу и будем стоять на своем, если бы даже пришлось и голодать».
Булгаков ни в каком писательском составе идти к Сталину не собирался, угрожать вождю приостановкой литературной работы тем более, но летом 1929 года он написал первое письмо Сталину. Тогда ответа не получил. Зато получил ответ на похожее по содержанию заявление, адресованное начальнику Главискусства А. И. Свидерскому, который Булгакову симпатизировал и до последнего отстаивал его «Бег».
НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВИСКУССТВА А. И. СВИДЕРСКОМУ
Литератора Михаила Афанасьевича Булгакова (Москва, Б. Пироговский 35а, кв. 6, т. 2-03-27)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В этом году исполняется десять лет с тех пор, как я начал заниматься литературой в СССР. За этот срок я, ни разу не выезжая за пределы СССР (в Большой Советской Энциклопедии помещено в статье обо мне неверное сведение о том, что я якобы одно время был в Берлине), написал ряд сатирических повестей, а затем четыре пьесы, из которых три шли при неоднократных цензурных исправлениях, запрещениях их и возобновлениях на сценах государственных театров в Москве, а четвертая «Бег» была запрещена в процессе работы над нею в Московском Художественном театре и света не увидала вовсе.
Теперь мне стало известно, что и остальные три к представлению запрещаются.
Таким образом, в наступающем сезоне ни одна из них, в том числе и любимая моя работа «Дни Турбиных», – больше существовать не будут.
Я должен сказать, что в то время, как мои произведения стали поступать в печать, а впоследствии на сцену, все они до одного подвергались в тех или иных комбинациях или сочетаниях запрещению, а сатирическая повесть «Собачье сердце», кроме того, изъята у меня при обыске в 1926 году представителями Государственного Политического Управления.
По мере того, как я писал, критика стала обращать на меня внимание и я столкнулся со страшным и знаменательным явлением:
Нигде и никогда в прессе в СССР я не получил ни одного одобрительного отзыва о моих работах, за исключением одного быстро и бесследно исчезнувшего газетного отзыва в начале моей деятельности, да еще Вашего и А. М. Горького отзывов о пьесе «Бег».
Ни одного. Напротив: по мере того, как имя мое становилось известным в СССР, пресса по отношению ко мне становилась все хуже и страшнее.
Обо мне писали, как о проводнике вредных и ложных идей, как о представителе мещанства, произведения мои получали убийственные и оскорбительные характеристики, слышались непрерывные в течение всех лет моей работы призывы к снятию и запрещению моих вещей, звучала открытая даже брань.
Вся пресса направлена была к тому, чтобы прекратить мою писательскую работу, и усилия ее увенчались к концу десятилетия полным успехом: с удушающей документальной ясностью я могу сказать, что я не в силах больше существовать как писатель в СССР.
После постановки «Дней Турбиных» я просил разрешения вместе с моей женой на короткий срок уехать за границу – и получил отказ. Когда мои произведения какие-то лица стали неизвестными мне путями увозить за границу и там расхищать, я просил о разрешении моей жене одной отправиться за границу – получил отказ.
Я просил о возвращении взятых у меня при обыске моих дневников – получил отказ. Теперь мое положение стало ясным: ни одна строка моих произведений не пройдет в печать, ни одна пьеса не будет играться, работать в атмосфере полной безнадежности я не могу, за моим писательским уничтожением идет материальное разорение, полное и несомненное.
И, вот, я со всею убедительностью прошу Вас направить Правительству СССР мое заявление:
Я прошу Правительство СССР обратить внимание на мое невыносимое положение и разрешить мне выехать вместе с моей женой Любовью Евгеньевной Булгаковой за границу на тот срок, который будет найден нужным.
Михаил Афанасьевич Булгаков.
Москва, 30 июля 1929 г.
Булгаков не просто это письмо написал и отправил, но был Свидерским принят. И в тот же день начальник Главискусства написал А. П. Смирнову:
«СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) – тов. СМИРНОВУ А. П.
30 июля 1929 г.
Я имел продолжительную беседу с Булгаковым. Он производит впечатление человека затравленного и обреченного. Я даже не уверен, что он нервно здоров. Положение его действительно безысходное. Он, судя по общему впечатлению, хочет работать с нами, но ему не дают и не помогают в этом. При таких условиях удовлетворение его просьбы является справедливым.
А. СВИДЕРСКИЙ» [25; 114].
Редкий случай: власть попыталась встать на сторону затравленного человека, Булгаков сумел вызвать к себе сочувствие, пробился к сердцу другого человека, а дальше завертелся отлаженный механизм советской бюрократической машины, и 3 августа Смирнов обратился к В. М. Молотову:
«3 августа 1929 г. СЕКРЕТНО
В ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) – тов. МОЛОТОВУ В. М.
Посылая Вам копии заявления литератора Булгакова и письма Свидерского, – прошу разослать их всем членам и кандидатам Политбюро. Со своей стороны считаю, что в отношении Булгакова наша пресса заняла неправильную позицию. Вместо линии на привлечение его и исправление – практиковалась только травля, а перетянуть его на нашу сторону, судя по письму т. Свидерского, можно.
Что же касается просьбы Булгакова о разрешении ему выезда за границу, то я думаю, что ее надо отклонить. Выпускать его за границу с такими настроениями – значит увеличить число врагов. Лучше будет оставить его здесь, дав АППО ЦК указания о необходимости поработать над привлечением его на нашу сторону, а литератор он талантливый и стоит того, чтобы с ним повозиться.
Нельзя пройти мимо неправильных действий ОГПУ по части отобрания у Булгакова его дневников. Надо предложить ОГПУ дневники вернуть.
А. СМИРНОВ» [25; 115].
Эта резолюция и была воплощена в жизнь и действовала до самой смерти того, о ком в ней говорилось. Об этом секретном документе, странным образом предопределившем его дальнейшую судьбу, Булгаков знать не мог и находился в состоянии мучительного, изматывающего ожидания, неопределенность которого бывает хуже самой страшной определенности. Впереди его ждали театральный сезон без единой пьесы, травля, нищета и полная безысходность. Он был не единственным, кого на рубеже двух десятилетий начала исступленно травить рапповская критика и кто мучительно искал ответа на вопрос, как быть, размышляя о бегстве либо из литературы, либо из страны. В тот день, когда Смирнов излагал свои секретные предложения по поводу Булгакова В. М. Молотову, пролетарский писатель А. А. Фадеев открыто написал в «Комсомольской правде»: «В рядах советских писателей есть много искренних, честных, вдумчивых художников. Они не хотят идти вместе с реакционерами и упадочниками типа Пильняка и Вс. Иванова, они не хотят идти вместе с такими откровенными врагами рабочего класса, как Замятин и Булгаков» [32; 676]. Три недели спустя, 26 августа в «Литературной газете» была опубликована статья Бориса Волина «Недопустимые явления», где, в частности, говорилось: «Эмигрантские газеты и журнальчики охотятся за нашей литературой и наиболее каверзное и сомнительное у себя перепечатывают. Особым успехом обычно пользуется у эмиграции творчество Булгакова, Зощенко, Пильняка и др.» [19; 610].