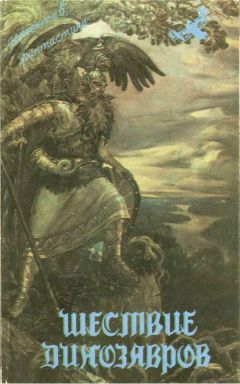Завидев подъехавшего Пожарского, ливонец велел зарядить самопалы. Рослые молодцы неуклюже стали забивать дула порохом и пулями, прилаживать пищали на сошки и воткнутые в снег бердыши. Наконец задымили зажатые в курках фитили.
Несмотря на усердие и желание угодить князю, заряжание стоило молодцам великих трудов, пот заливал их лица.[32]
— Фойер! — натужась, выкрикнул заплясавший на месте от нетерпения Флюверк.
Едва ли половина пищалей выбросила огонь и грохнула, разнося эхо по всей закованной льдом Волге. Прочие остались немы.
Ретивый ливонец сперва кинулся к оплошавшим ученикам, а потом скакнул от них из клубов серого тяжелого дыма к Пожарскому. Глаза его побелели от гнева, руки тряслись, цепляясь за воротник короткого мехового кафтана.
— Майн гот!.. Посор!.. Срам!..
Но, чуть не сбив Флюверка с ног, рухнул перед конем Пожарского на колени один из самопальщиков.
— Упаси ты нас, воевода, от проклятого немца! До полусмерти заездил! На кой ляд нам огненна потеха? Опричь мороки, от нее никакого проку!..
— С косами да вилами сподручней? — с укором спросил князь. На впалых шеках его заиграли желваки.
Минин впервые увидел Пожарского осерчавшим и потупился, будто сам был виноват перед ним за то, что князь чаял застать в Нижнем более подготовленных ратников. Но откуда их было взять? Служилое дворянство покуда выжидало, не получив одобрения тугодумного Звенигородского. И к ополчению примкнуло всего лишь несколько ратных дворян да детей боярских. Все должно было перемениться только теперь, с приездом князя. На то и рассчитывал староста. И Пожарский не мог того не разуметь, а все же выказал свое недовольство. «Коли будет то и дело возмущаться, смогу ли я сдерживать его?» — рассудительно прикидывал Кузьма.
— Лютует изверг, нещадно лютует! — не заметив раздражения Пожарского и пропустив мимо ушей его укор, еще громче возопил жалобщик. А детина он был ражий, приметный, с толстомясым пунцовым лицом, студенистыми выкаченными глазами, и Кузьма узнал в нем сына оханщика Гурьева, который держал на торгу лавочку.
— Довольно, Акимка, — одернул он жалобщика. — Аль режут тебя? Пошто князю не внимаешь?
Молодец смолк, растерянно уставился на Пожарского. Понял, что по дурости творил поклеп себе же на беду.
— Мало вас треплет немец, сам пуще изводится, — сурово попрекнул князь, повысив голос, чтоб слышали все. Я б не спустил, что он спускает. Тут вы пот проливаете, дабы в сече кровью не умыться. Лучше ныне малы муки претерпеть, чем опосля великие… А тебе, — указал он перстом на жалобщика, — не место в рати. Сумятицу там чинить станешь, коль с нытья начал. Ступай домой, приищи дело по плечу.
— Домой? — испугался детина. — Не, домой не пойду… Казни, не пойду… Помилуй, воевода.
— У него милости проси, — кивнул князь на Флюверка.
Жалобщик резво вскочил и бухнулся на колени уже перед наставником.
— Гут! — засмеялся отходчивый Флюверк и благодарно махнул Пожарскому рукой. — Их сделайт, я сделайт добрый кнехт.
Тронув коня, князь в задумчивости поехал вдоль берега. Кузьма молча следовал за ним. Остановились, когда впереди на склоне стали видны кресты и маковки Печерского монастыря. Тишина была, как в пустыне. Врачующая тишина. Но князя она не успокоила.
— Худо, — сказал он, обернувшись к Минину. — Не чаял я, а доведется дружбу заводить с вашим воеводою, хоть он и с ляхами был в Москве, когда они там меня побивали. От всякого единения ныне не вред, а польза. Служилого люду больше к нам пристанет. А без него нет сильной рати. В сечу поведу токмо тех, кто справен да искусен. Все иные — помеха.
Пожарский испытующе посмотрел на старосту: не почел ли он его слова за угодливое потворство боярскому ставленнику. Взгляды их скрестились, прямые, открытые. Никакая грань не разделяла в тот краткий миг таких разнородных людей, которые бы в другую пору не могли сойтись близко и которым предстояло возложить на себя единое бремя.
— Не кручинься, Дмитрий Михайлович, — с доверительной мягкостью утешил Минин, — я с тобою до самого скончания.
5
Опасливый Звенигородский рассудил, что лучше плыть по течению, нежели встречь потока. В первые дни воеводства он еще следовал повелениям Боярской думы и даже выказал норов, но, натыкаясь на упорное неповиновение низов, отступился. Никто не приносил ему доброхотных подношений и не толкался у его крыльца. Посады и уезд обходились вовсе без него. Церковь отвернулась. И некий дерзкий торговый мужик Кузьма Минин обладал большей властью, чем жидкое воеводское окружение, огражденное стрелецкими бердышами.
Василий Андреевич то сокрушался, то гневался, доводя себя до исступления, однако ни поставленный к нему товарищем старый Алябьев, ни усердный дьяк Семенов ничем не могли пособить ему. Паче того Алябьев не единожды упрашивал первого воеводу пренебречь мнимой властью московского боярства, уронившего себя новыми сделками с Жигимонтом. Звенигородский колебался, боясь просчитаться и надеясь на благоразумие того служилого дворянства, которое не хотело мешаться с чернью. Но пылкий мининский призыв и полнящаяся земская казна привлекали многих, раскалывая дворянскую верхушку. Чуял Звенигородский, что нарастает недовольство его бездействием, сдерживающим подначальных ему служилых от вступления в ополченские ряды, а все же избегал дать добро. Ничего не решал, плыл по течению.
И когда объявился в городе Пожарский, сразу же в отличку от боярских нареченный земским воеводой, Василий Андреевич окончательно уразумел, что может оказаться в полном одиночестве, лишиться и раздумчивых служилых. И уже мерещилось в страхе Звенигородскому, что, оставленный всеми, он попадает в руки посадской черни, и она, словно Богдана Вельского в Казани, сбрасывает его с крепостной стены. Василий Андреевич, не мешкая, отправил посыльных к мугреевскому князю и просил его пожаловать к себе. Но и сам желающий встречи Пожарский не стал спешить, отговорившись занятостью. Скрывая обиду, Василий Андреевич смиренно ждал худородного стольника-гордеца.
Земский воевода пожаловал не один, а вместе с Биркиным и Мининым. Звенигородский впервые узрел замутившего весь город мясника, который ему мнился сущим разбойником, но в Минине ничего устрашающего не было: справный, степенный староста отличался от своих сообщников только простым одеянием да по-особому острой приглядчивостью. Высокий лоб его поперек пересекала подвижная складка.
— Здрав будь, князь Василий Андреевич, — с легким поклоном приветствовал нижегородского воеводу Пожарский.
— Буди здрав и ты, князь Дмитрий Михайлович, — ответствовал Звенигородский степенно оглаживая пышную окладистую бороду, что закрывала чуть ли не пол груди. На миг замешкавшись из-за старосты, с которым вроде бы не пристало садиться за один стол, он с хозяйским радушием пригласил: — Милости прошу, не побрезгуйте моим брашном.
Была пора предрождественского говенья, но стол первого воеводы ломился от изобилия яств. Словно ничем иным, а только одним хлебосольством намеревался Звенигородский ублажить гостей. Правда, все кушанья были постными, но полные миски осетровой да стерляжьей икры, розовые ломти лосося, горками высившиеся на блюдах подовые и пряженые пироги, влажно мерцающие груздочки, что подобраны один к одному, огородные разносолы, груши, утопающие в квасу и патоке, медвяные взвары с изюмом, которыми были наполнены ставцы и кувшины, вполне могли соперничать со скоромной едой.
Словно уговорившись наперед, сели по разные стороны широкого стола: по одну — сам Звенигородский с Алябьевым и Семеновым, по другую — гостит. Нырнули в пузатую братину ковшики и наполнились дорогам ренским вином.
Василий Андреевич встал и приосанился, пытаясь к внушительности добавить молодечество. Старая привычка заводилы на бессчетных пирах и приемах наложила отпечаток на его повадки, когда пристойная степенность удачно и в меру сочеталась с непринужденностью. Но теперь, в преклонных летах, всякие его потуги проявить былую прыткость принималась сотрапезниками за нелепое шутовство, дурашливую прихоть, которые никак не красили дородного мужа, и чего он, увы, не замечал. И разжигая в себе прежний задор, не за чарку взялся первый воевода, а за большой кубок.
— Честь да место всем, — сказал он голосом бедового застольщика. — Не дорога, толкуют, гостьба, дорога служба. И еще толкуют: сердися, бранися, дерися, а за хлебом-солью сходися. Вот и выпьем для почину за лад меж нами!
Однако до ладу было далеко. Разговор не клеился. Неловкое бодрячество боярского наместника только насторожило Пожарского. И он задержался с благодарственным ответным словом, презирая пустые речения, а говорить сразу о делах было негоже. Да и стоило ли говорить, если гостеприимство могло обернуться ложью, что уже проявилась в поведении хозяина?