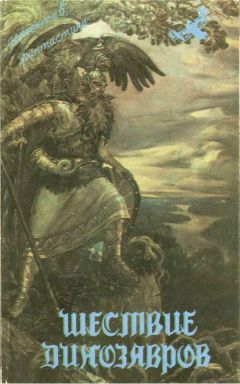Дверь беспрерывно бухала. Морозные клубы окутывали избу, растекаясь по закопченным свечами бревенчатым стенам, застя и без того мутные окошки. С потолка покапывало испариной.
Юдин еле успевал сдерживать наседающих на него приезжих поместных дворян, гонцов и ходатаев, уговаривая их блюсти черед и не мешать управляться с неотложными делами. Голова его ныне была занята вздорными выходками хурмышского воеводы Смирного Елагина, которому впустую посылали одну увещательную грамоту за другой. Смирной упорно не хотел примыкать к ополчению, паче того настраивал понизовье против Нижнего Новгорода и самовольно обирал Лысковскую, Княгининскую да Мурашкинскую волости. С Елагиным готовы были исподтишка столковаться арзамасцы. Великим бедствием мог обернуться такой сговор, ополчению грозила смута под самым боком.
От имени Пожарского Юдин срочно наговаривал грамоту ко всем служилым людям Курмыша, тамошним стрельцам и казакам, и один из писцов, улавливая голос дьяка сквозь мешанину голосов посетителей, строчил без передыху:
«…A буде Смирной нашего указу не послушает, а вам денежнова и хлебнова жалованья по окладом… всего сполна не даст, и вам бы прислати в Нижний челобитчиков и на Курмыше Смирнова велеть переменить…»
Из толпы жавшегося у дверей люда к Юдину отважно пробился худосочный монах в драной шубейке, надетой поверх рясы. Дьяк недовольно поморщился: напористый чернец уже не впервой лез ему на глаза.
— Кто будешь? — бегло перечитывая поданную писцом бумагу, спросил Юдин.
— Назывался уж яз ти, — сердито ответил монах, пронзая дьяка горячечным взором. — Аль не упомнил? — Государев печатник, Микита Фофанов из Москвы.
— Фофанов? — искоса глянул Юдин в его запавшие, с темными окружьями глаза. — Нужда кака?
— Книжно дело хочу тут зачать. Печатный двор сгорел в московском пожаре, а яз штанбу вывез. Целехонька почти. Пособи, дьяче, печатню поставить.
— До книг ли теперича, — затряс песочницей над прочтенной бумагой Юдин. — Ужо отгоним ворога, вызволим Москву — примемся и за печатны снасти. Опосля…
— Яз мыслил, разумнее ты, — с дерзким вызовом прервал дьяка печатник. — У тя, чую, все, что опосля, то не гораздо. Хочешь токмо железом воевати, а не разумением. Беда-то не на веки Мафусаиловы. Останемся впусте, на пустом же пусто и будет. Коли ноне ничего не посеем, нечему и взрасти.
Юдин хотел было дать отповедь печатнику, но тут из своего угла неожиданно подал голос смиренный Микифорко:
— Послушай инока-то, Васька. Послушай. Истину молвит.
Дьяк обернулся к нему, поглядел сурово. Но лик старца был так кроток и печален, таким младенчески беззащитным был Микифорко, который силился подняться, трудно дыша отверстым ртом с торчащими там двумя кривыми желтыми зубами, что Юдин сразу унял в себе гнев.
— Вишь, каков у тебя заступник, — улыбнулся он Фофанову. — Добро, пособим. Ступай к Минину в Земску избу, он всем урядом ведает. Скажи, что мной послан. Укажет, куда приклониться.
— Бога за тя буду молить, дьяче, — поклонился печатник.
— Ну, полно, — махнул рукой занятой Юдин. — За Микифорку вон помолися, он наставил.
И дьяк снова погрузился в свои спешные бумаги.
В Земской избе была толчея не меньше, чем в Съезжей. Тут сходились сборщики податей, целовальники, таможенники, амбарщики, перевозчики, приказчики, зажитники, — все, кто радел о казне, кормах и всяких припасах для ополчения. И кроме печатника, Минин и его подручные были осаждаемы множеством других челобитчиков. Только к вечеру Фофанов добился своего и вышел на улицу, к торговым рядам, дивясь неубывающему многолюдству и в них.
Торопливая суета захватила весь город. Был самый канун Рождества, и наступление праздника ускоряло гомонливое людское коловращение. Торг кипел. Прямо с возов шли нарасхват мороженые свиные полти, битая дичь, наваленная в изобилии на рогожи рыба. Мигом раскупались горячий сбитень и пышные, с жару калачи.
По всей юре вспыхивали в оконцах домов огоньки лампадок, а у ворот среди серебряно отсвечивающих сугробов зажглись плошки. Гостей ждали и привечали повсюду. Кое-где уже, раньше сроку, пробегала по улицам шустрая детвора, махая шестами с вифлеемскими звездами и заводя песни волхвов. Готовилась славить Христа. И мало кто в суматохе приметил тогда возок архимандрита Феодосия, который спешил до всенощной посетить принимающею схиму Репнина. Бывшему воеводе оставалось жить всею несколько дней.
Наконец-то оторвавшись от бумаг, вышел на крыльцо, на крепчающую студь усталый дьяк Юдин. Все ею подначальные давно разошлись по домам, и он остался в одиночестве. Но Юдин не испытывал тоски, и посейчас на уме у него были дела.
Совсем рядом грянули колокола, призывая ко всенощной. Дьяк снял шапку, перекрестился. Кто-то утробно кашлянул позади. Юдин с изумлением обернулся — на пороге стоял согбенный Микифорко. Благостную молитву вышептывали его губы:
— Рождество твое, Христе боже наш, возсия мирови свет разума…
— Ты пошто тут? — сухо спросил Юдин.
— Гляжу, припозднился ты, Васька. А всяку худо одному. Душа червивет…
Юдин насупился, постоял молчком и прижал старца к груди.
7
Свадьба Фотинки с Настеной пришлась на самый разгар усердных ратных хлопот, но откладывать ее было некуда: дел предстояло еще больше.
В ту пору Кузьма не отлучался от литейных ям на пустыре за Благовещенской слободой, где уже задымили наскоро выложенные печи. Под доглядом старосты впрок были заготовлены дрова, коих посадские возчики навалили целую гору, завезены медь и олово, пригнана вся оснастка, однако к самой важной работе тут еще только подступались. И Кузьма взялся помогать мастеровым, скреплявшим железными обручами прокаленные опоковые льяки для отливки малых пушек. С темным от копоти лицом, в засаленной шубейке и смятом войлочном колпаке он ничем не отличался от литцов, так что Сергей, посланный из дома за братом, не сразу углядел его среди работного люда.
— Поди, Минич, — по-свойски мягко ткнул черной ручищей в грудь Кузьмы Важен Дмитриев. — Ты свое сполнил, дале сами, чай, управимся — я пригляжу. А у тебя завтрева пущая морока…
По обычаю, после венчания новобрачные должны были справлять свадьбу в доме родителей жениха. Выручая сирот, Кузьма с Татьяной Семеновной приняли на себя родительскую обузу.
Уже были накрыты столы и собрались гости. Вот-вот должны подъехать молодые из церкви. Мининская чета вышла на крыльцо: в руках у Кузьмы — хлеб-соль на расшитом убрусе, у Татьяны Семеновны — снятая с тябла икона Николая-угодника. Дорожка, что тянулась от самого крыльца к распахнутым настежь воротам, была загодь устлана соломой, и, видя, как споро засыпает золотистую расстилку мельтешивый снежок, Татьяна Семеновна забеспокоилась:
— Эва мешкают!
— Мигом объявятся, — покосился на ее заалевшую щеку Кузьма и, усмехнувшись в бороду, спросил: — Али запамятовала, Танюша, про наше-то венчанье? Лишнего в церкви не стояли…
— Кому бы запамятовать! — оживилась, но сразу же и понурилась жена. — Небось, век миновал с того дни, а помню. Да не привелося вдосталь нарадоваться. Недоброе нам время выпало, разлучное. Не дай Бог такого сиротам нашим. Когда в дорогу-то тебя с Фотином сряжать?
— Погоди еще. До весны бы со сборами не протянуть.
— Ну слава Богу. Где весна, там и лето, — с облегчением вздохнула Татьяна Семеновна.
Кузьма жалостливо поглядел на нее, но утешать не стал:
— Нет, Танюша, медлить нам не с руки. Часу не задержимся, коль сберем силы…
Раздавшись в отдалении, немолчный трезвон колокольцев стал быстро приближаться, и в мгновенье ока в открытые ворота бойко влетели и сразу же встали разгоряченные, в облаке пара и взметенного снега лошади. Увитый лентами, увешенный цветными тряпицами, погремками и бляхами свадебный поезд сгрудился, смешался, и треск столкнувшихся саней, озорные выкрики и смех праздничным шумом заполнили двор. Скидывая тулупы, на снег высыпала молодая гурьба, вытолкнула вперед сияющих Фотинку с Настеной.
С первого возка скакнул дружка Огарий в малиновой шапке и нарядной, в блестках, перевязи через плечо, подбоченился и начальственным взором окинул свадебную ватагу.
— Во имя отца и сына и святого духа, аминь. Добралися во здравии. Да все ли поезжанушки туточки стоят? Все ли поезжанушки на венчанных глядят?
— Все! — хором отозвалась ему молодь.
Огарий взял за руки новобрачных, повел по дорожке к крыльцу. Суетливо забегая сбоку, торжествующий Гаврюха смазывал рукавом благостные слезы с лица. Сыпалось из вытянутых рук жито на молодых. А они, построжавшие, с потупленными головами, опустились у крыльца на колени, низко поклонились хлебу-соли да иконе, которой были трижды благословлены.
— Будьте счастливы, детушки, — расстроганно молвила Татьяна Семеновна и наказала невесте: — Послал тебе Бог честного мужа, Настенька, береги да холи его.