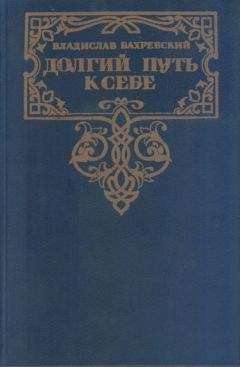Народ стоял и ждал приближения процессии. Впереди монахи-доминиканцы несли вчетвером большой латинский крест, за ними шли церковные чины со знаменами, несли на носилках деревянные статуи святых Яцека и Станислава — покровителей Малой Польши, и, наконец, двигалась повозка в виде ладьи, в которой восседал в полном облачении Савва Турлецкий.
Дети действительно стояли с цветами, а девы с ветвями, но почему-то цветы не летели под ноги шествию.
«Сигнал, что ли, забыли дать?» — нахмурился его преосвященство и поднялся в ладье, чтобы благословить народ. Едва епископ встал, как в него полетели цветы, но к цветам было прицеплено еще кое-что: дохлые кошки и дохлые крысы, тухлые яйца, кочаны провонявшей капусты, коровьи лепехи, конские котяхи…
Девы, вместо того чтобы устроить свод из веток, стали лупить монахов и священников. И такое пошло безобразие, такая пошла вонь, такой сатанинский смех, что монахи кинулись бежать, как бараны, сквозь строй детей и девиц, получая свою порцию гадости и побоев.
Укрывшись за стенами замка и еще не стерев с лица и одежды нечистот, епископ с бранью накинулся на командира наемников:
— Куда вы смотрите! Почему допустили надругательство над священством? — и приказал: — Немедленно поставить виселицы. Две дюжины виселиц. И чтоб ни одна не пустовала!
Смех перешел в рыдания, солдаты вышли из-за стен и стали хватать людей, но рыдания тотчас заглушила пальба. Явились казаки и отбили своих.
Ночью Савва Турлецкий с пани Деревинской бежал потайным ходом в разоренный дом над озером и оттуда через заходившую ходуном Украину в Варшаву.
6
Павел Мыльский, отпустив повод, ехал над рекою, и сердце у него билось, как бьется птаха в ладонях. Страшно ему было и хорошо. Оттого хорошо, что наконец-то Бог привел в родные края. Только чем оглоушит родина непутевая? Может, и грех такое о родине сказать, — сами, знать, непутевые, коли покоя нет, да ведь родина — не земля, не вода, не небо. Родина — это сразу все: и земля, и вода, и небо, и люди, и дома, птицы на деревьях, скот на пастбищах, запах дыма, запах еды, запах питья, запах волос любимой… Потому что все это на земле неодинаково, все не так, как за соседним бугром.
У старых ветел, где когда-то высекли бедную Куму, Павел сошел с коня, напоил его и сам напился.
Вот тут, за увалом, стоит его родное село Горобцы. Века стоит… Стояло, покуда Вишневецкий не спалил.
Павел вспомнил атаку на казачьи окопы, и как потом пришлось удирать, тащить на горбу своего разорителя.
«А к тебе, князь, я за своей наградой еще наведаюсь, — подумал Павел. — Мне второе сельцо сгодилось бы. Пора ведь и остепеняться».
Тоска сжала сердце. Ну вот выедет на бугор, а там, за бугром, — ковыль.
Подтянул подпругу, огладил коня ладонью: медлил, боялся последних шагов. Сел в седло. Поехал, поглядывая по сторонам.
Вот они, Горобцы!
И понял, что ошибся. Это было другое село. Ни панского дома, ни бесконечной улицы. Вместо церкви — сарайчик с маковкой.
Пан Мыльский дал коню шпоры и поскакал, угнув голову в плечи. Подумалось: так, наверное, призраки по земле скачут, покоя ищут.
И вдруг Павла осенило: «Господи! Какие я собирался Горобцы увидать? Прежних-то нет! Нет их! Спалили, перепахали».
Тихонько натянул повод. Конь перешел на шаг и стал.
Павлу захотелось, чтоб он и вправду ошибся дорогой и заехал не туда. Мать могла и не добраться до Горобцов. Шляхту ведь и били, и топили…
Рука нащупала пистолеты на поясе. Хозяйничать явился? Земли захотелось? Получай землю.
Помереть ему не страшно было, да только по-дурному помереть кому же охота?
Павел спрыгнул с коня и увидал: белый камень. Из-под земли выпирает. Потянул коня за узду, подошел к тому камню, нагнулся, потрогал. Камень был не теплый, не холодный.
«Как рыцарь на перепутье», — подумал о себе пан Мыльский с усмешкой и вдруг понял, что так оно и есть, на перепутье.
Снова потрогал пистолеты. Проверил заряды, подергал саблю в ножнах. И услышал — поют. Детишки поют.
Гусе-гусе гусенятко!
Визьмы мене на крылятко…
И только теперь увидел: гуси летят на юг.
Пан Мыльский поставил ногу в стремя, взлетел в седло, поскакал. У дороги, в канаве, спрятавшись от взрослых, от ветра, сидели три дивчинки.
— Это Горобцы? — спросил он.
— Горобцы.
— А пани Мыльская в которой хате живет?
— У нее хаты нема, — сказала одна девочка.
— Нема? — переспросил Павел, и сердце его полетело в пустоту.
— Она в хоромах живет.
— В хоромах?
— Вон на горке!
— На горке?! На горке она живет! — Павел хлопнул ладонью по крупу коня и поскакал через село, видя лишь горку да большой дом из белых новых бревен.
Уже у крыльца опамятовался: не сгубить бы старушку нежданным своим появлением. Послать бы кого к ней, чтоб подготовили. Он спрыгнул на землю и стоял в нерешительности. Дверь отворилась.
— Мама, — сказал он. — Это я.
Виновато сказал, будто своей волей шастал по белу свету.
— Бог не оставил нас, — сказала пани Мыльская, сходя с высокого крыльца и обнимая сына. — Ступай в дом, я поставлю коня.
7
Уже на другое утро Павел Мыльский впряг вола в соху — его подарили односельчане пани Мыльской — и пошел пахать под пар землю, какую отвели им с матерью новые хозяева жизни.
Узнав от матери, какое существование им теперь предстоит: сам паши, сей, убирай, молоти, — вскинулся было в ярости, как лев, но мать сказала ему:
— Эти люди спасли меня от смерти. Дали мне кров, зерно, одежду, поле. Я не хочу им зла. Я хочу жить с ними в мире.
— Так кто же мы теперь? — спросил Павел, не поднимая голоса. — Шляхта, казаки, крестьяне, рабы?
— Шляхту в Горобцах не потерпят, перебьют. В казаки же не примут, помня, что ты воевал на другой стороне. Крестьянствовать мы не сможем. Крестьянская работа умения требует.
— Так кто же мы?
— Люди, Павел. Нам разрешено здесь жить и кормиться… — Она сказала это и замолчала, в печали подняла глаза на сына. — Уйдешь?
Сел, безвольно опустив руки.
— Мама, я с тобой хочу быть. Дома. Я устал.
Теперь Павел шел за волом бороздой, налегая на соху. Старая пашня хоть и заросла, но целиной не успела стать. Он вдруг признался себе, что всю жизнь его манила тайна крестьянства. Князья строили замки, воевали, хитрили, добиваясь почестей, а вместе с ними вся иерархия «лучших людей» хитрила, воевала, добивалась, но чего? А эти трудолюбивые пчелы были верны одной земле. Они всё пахали, всё сеяли, косили, молотили… И ведь это за них, за трудолюбивых пчел, за их землю, за плоды их труда шли войны, совершались подлоги, убийства…
Павел удивлялся! Всему!
Удивлялся, что жив. Удивлялся, что нашел мать, ожидающей его и дождавшейся. Удивлялся своей терпимости. Сказали: паши — пашет! Да еще как пашет! Не хуже, чем они, трудолюбивые пчелы, не хуже раба.
Павел прикрыл веками глаза, заставляя себя представить поле боя, там, под Збаражем: кровь на траве, внутренности лошади, убитой ядром, убитых людей во рву, перед валом, и в поле. Сколько их там было? И содрогнулся спиной. Почему ту жизнь, где было столько боли, столько смерти, он считал лучшей, чем эта, где пыхтит боками вол, где небо, земля и птицы?
«Да уж не обманываем ли мы себя, почитая свою жизнь более высокой, красивой, осмысленной?» — задал Павел вопрос вопросов и повел глазами по своему прошлому. Походы, страх смерти, плен, раны…
— Эй! — окликнул Павла старик Квач, ломая, однако, перед паном и шапку, и спину. — Бог помочь!
— Спасибо!
— Давай пройдусь бороздой, а ты отдохни.
— Ничего, я сам.
Старик подошел, оглядел ярмо, что-то подтянул, что-то ослабил.
— Кончилась, что ли, война-то? — спросил, заглядывая в глаза, чтоб неправду углядеть, коли случится.
— Замирились, — сказал Павел осторожно.
— Надолго?
— Боюсь накаркать, старик.
— Ненадежный, значит, мир?
— Ненадежный, — вздохнул Павел.
— Ну а ты как? С кем воевать пойдешь, коли придется?
— Я теперь дома лучше посижу.
— А не дадут?
— Не дадут — за гетмана буду воевать. Моя землица в пределах Войска Запорожского, да и мать мою казаки не обидели.
Квач обрадовался.
— Ты это на сходке скажи, чтоб казаки в тебе не сомневались.
— Цоб! Цоб-цобе! — закричал пан Мыльский на вола и пошел, пошел ломить еще одну борозду.
8
Прискакали в Горобцы братья Дейнеки. Втроем. Пьяные. Плачут. Из ружей палят. Такая пальба, словно враг наступает. Привезли Дейнеки бочку вина, где только им Бог послал!
— Пей! Поминай брата нашего! Пей, все равно пропадать! Хмельницкий народ предал полякам!
Опять старуха Дейнека в черное оделась: сына ее удалого, из двойняшек, Хмельницкий на кол посадил. Всей-то вины — утопил шляхтича с женой, будто мало их топили. И не ради забавы утопил — за обиды. Тот шляхтич был из Корецких, отпрыск. Князь, дядя его, виселицы в имении понаставил, а этот уши крестьянам придумал резать. За то, что работать на него не пожелали. А кто же нынче на панов спину будет гнуть? Нет больше хлопов на Украине! Все вольные!