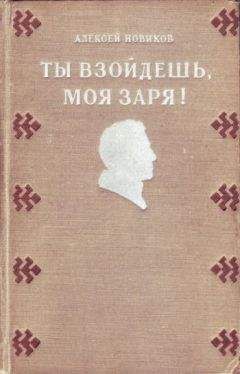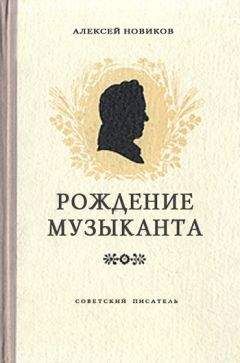После репетиции Глинка был приглашен к директору и вернулся домой хмурый, гневный.
– Представь себе, Машенька, директор мне объявил, что получено высочайшее разрешение посвятить мою оперу государю.
– Значит, еще не все потеряно, Мишель! – Марья Петровна была занята приготовлениями к вечернему приему гостей, но услышанная новость заставила ее все забыть.
– И представь, – продолжал Глинка, – его превосходительство, поздравив меня с высочайшей милостью, особо подчеркнул, что исполнилось мое заветное желание.
– Какой ты у меня умница, Мишель!
– Нет, Машенька, куда мне! Чувствую, что немец сделал новый ловкий ход.
– Спасибо барону! Теперь государь узнает твои мысли и полюбит тебя.
– Полно дурить, Машенька! – серьезно отвечал Глинка. – Я писал «Ивана Сусанина». Не моя вина, что ныне будет «Жизнь за царя». Говорят, его величество собственноручно начертал.
– Какое счастье, Мишель!
– Счастье?! – Глинка повернулся к жене, губы его подергивались. – Ты говоришь – счастье? А по мне – единственное счастье, если бы меня и мою оперу оставили в покое. Так нет!
Он взглянул на жену и увидел в ее глазах такое непонимание, что махнул рукой и ушел к себе.
Вечером, когда он вышел в гостиную, у Марьи Петровны собирались гости. Среди офицеров Глинка сразу узнал Васильчикова. Васильчиков подошел к хозяину дома с сердечным поздравлением. В высших сферах, к которым он принадлежал по родственным связям, уже было известно о переименовании оперы самим государем.
– Поздравляю вас, – сказал Васильчиков, – и надеюсь, что это будет способствовать успеху оперы.
– Премного благодарен, – отвечал Глинка, – хотя, признаюсь, не искал этой милости.
Первого ноября Пушкин читал у Вяземских «Капитанскую дочку». При всей противоречивости мнений, присутствовавшие сошлись на одном: в словесности готовилось событие чрезвычайное. А через три дня события совсем неожиданные произошли в доме поэта.
Поутру Пушкин занимался в кабинете. Слуга подал полученные по городской почте письма. Пушкин вскрыл конверт и в недоумении стал читать: неведомые авторы пасквиля причисляли Александра Сергеевича Пушкина к ордену рогоносцев и в удостоверение слали ему замысловато составленный патент. Впрочем, гнусный смысл пасквиля был ясен. В патенте был назван гроссмейстер ордена рогоносцев пресловутый Нарышкин, официальный муж официальной любовницы Александра Первого. Пасквилянты, причисляя Пушкина к тому же ордену, намекали на отношения Николая к жене поэта.
Пушкин знал, что это гнусная клевета на его жену. А д'Антес? Счастливая его внешность, несчастная страсть и двухлетнее постоянство не были безразличны Наталье Николаевне.
Произошло тяжелое объяснение с женой. Пушкин знал, что ему делать.
В первую очередь надо было покончить с двусмысленными благодеяниями венценосца. За Пушкиным числилась государственная ссуда на издание сочинений. Поэт отправил письмо министру финансов: он отдавал в казну в немедленное погашение ссуды все свое имение.
«Осмеливаюсь утрудить ваше сиятельство, – писал поэт, – еще одною, важною для меня просьбою. Так как это дело весьма малозначуще, и может войти в круг обыкновенного действия, то убедительнейше прошу Ваше сиятельство не доводить оного до сведения государя императора, который, вероятно, по своему великодушию, не захочет таковой уплаты (хотя оная мне вовсе не тягостна), а может быть и прикажет простить мне мой долг, что поставило бы меня в весьма тяжелое и затруднительное положение: ибо я в таком случае был бы принужден отказаться от царской милости, что и может показаться неприличием, напрасной хвастливостью и даже неблагодарностию».
Далее оставалось разделаться с д'Антесом. К этому времени бывший французский шуан успел стать приемным сыном голландского посланника при русском дворе барона Геккерена. Этот старый контрабандист, развратник и сводник составил достойную пару с благоприобретенным приемышем. Геккерена и заподозрил Пушкин в изобретении пасквиля. К д'Антесу пошел письменный вызов на дуэль. Вызов попал в руки старого Геккерена. А через сорок восемь часов после отправки вызова поэт узнал, к величайшему своему удивлению, что молодой д'Антес-Геккерен стоит вне всяких подозрений в своих отношениях к Наталье Николаевне: он, оказывается, влюблен в ее сестру Екатерину Гончарову и готов просить ее руки. Единственное препятствие к свадьбе – вызов Пушкина.
Пораженный низостью противника, поэт готов был взять обратно свой вызов с непременной ссылкой на дошедшее до него известие о предстоящей помолвке. Но такая ссылка была бы пощечиной д'Антесу. В движение пришли покровительницы Натальи Николаевны, друзья и мнимые доброжелатели поэта. Наталья Николаевна совещалась с сестрами. Она готова была отдать своего поклонника влюбленной до беспамятства Екатерине.
Но Пушкин стоял на своем. Старый Геккерен дважды приезжал к поэту, умоляя об отсрочке дуэли. Он просил неделю срока. Пушкин великодушно предоставил ему две недели. Но здесь сам д'Антес попробовал нагло продиктовать Пушкину свои условия. Взбешенный поэт повторил вызов на дуэль. Секунданты уже приступили к совещанию. По их предложению, Пушкин снова написал письмо, в котором готов был взять вызов обратно, однако по тем же мотивам: вследствие дошедших сведений о женитьбе д'Антеса на его свояченице.
Секунданты, уладив дело, приехали к Пушкину во время обеда. Выслушав их, он вернулся в столовую и сказал Екатерине Николаевне:
– Поздравляю тебя, ты объявлена невестой!
Екатерина Николаевна, будучи не в силах владеть собой, убежала из столовой. За нею последовала Наталья Николаевна. Пушкин проводил жену долгим взглядом.
Помолвка была объявлена официально. Счастливый жених слал письма Пушкину, предлагая дружбу. Пушкин возвращал письма нераспечатанными.
Дом поэта превратился в модную лавку. Наталья Николаевна занялась приготовлением приданого для сестры. Сестры старались поделить любовь Жоржа д'Антеса и мучили друг друга великодушием и ревностью. Трагедия готова была обернуться свадебным фарсом. В великосветских гостиных злорадно шушукались и чего-то ждали. Пушкин проводил время за работой. Темные силы, нанесшие ему удар из-за угла, еще не достигли вожделенного результата.
А читатели очередной книжки «Современника» с жадностью набросились на «Капитанскую дочку».
Заревом грозного пожарища полыхают страницы романа. Перед неодолимой силой повстанцев падают, как карточные домики, царские крепости. В словесности воскрес для новой жизни Емельян Пугачев. То блеснет лукавым глазом, то засветится в этих глазах мужицкий ум, то расскажет он замысловатую присказку, а в присказке раскроется вольная, как птица, душа… «Эх, улица моя тесна!» – молвит и крепко задумается Пугачев. А к нему для борьбы против ненавистных бар стекаются новые несметные толпы. Горят, полыхают, как факелы, помещичьи усадьбы.
Прочтет этот роман читатель и, перелистывая страницы, скажет: «Так вот каковы были времена! Вот как рванулся на волю народ, только не мог порвать вековечных цепей». А иной, закрыв книгу, повторит вслед за поэтом: «Выходит, весь черный народ был за Пугачева?» Слов этих нет, конечно, ни в «Истории Пугачева», ни в «Капитанской дочке». Но не о том ли говорят картины, начертанные верной и смелой кистью?
В конце романа является и сама матушка царица. Та самая Екатерина Вторая, которую Пушкин окрестил Тартюфом в юбке. Екатерина появляется в романе, чтобы оказать милость. Авось на эту приманку клюнет цензура. Но разве не увидит русский человек, исстари привыкший читать книги, написанные эзоповым языком, что матушка царица готова оказать милость только дворянину, временно, случайно, но отнюдь не по убеждению оказавшемуся среди пугачевцев? И разве не вспомнит читатель пловучие виселицы, сооруженные по царскому указу? Заблудшему дворянину – монаршая милость; народу – плеть и дыба, пеньковая петля да топор палача.
Эзопов язык приобретал полную ясность для понимающего читателя. А расчет поэта оказался безошибочным. Роман о Пугачеве увидел свет. В Петербурге тотчас поднялись разные толки. Этот шум был тем более понятен, что Пушкин выступал с крупным произведением после долгого перерыва. Куда же пойдет теперь мятежный поэт? Для многих высокопоставленных персон, зорко следивших за деятельностью Пушкина, «Капитанская дочка» давала недвусмысленный ответ. В то время, когда российская словесность заключала нерушимый союз с монархом в творениях Загоскина, Булгарина и Кукольника, Пушкин упорно коснел в якобинстве. Оставалось только дивиться его дерзости. Как ни искореняй крамолу, опять нашелся пугачевец и подстрекает к бунту. Многие с ужасом взывали: «Когда же избавимся от этих мужиков? Ныне Пушкин, для полноты картины, тащит в литературу и башкир и киргизов. Вот до чего пала изящная словесность! Неужто же быть ей, по воле Пушкина, мужицкой шлюхой?»