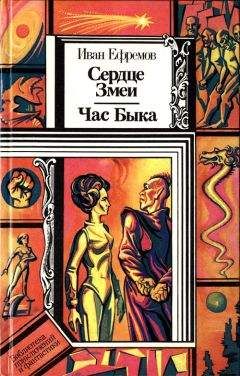В ад низверженной была и она: не придет ли Он к ней, не скажет ли: «Я здесь», — думала она и радовалась так, как будто знала, что там, куда они идут, уже не будет голода и матерям не надо будет красть чужих детей и резать, как баранчиков, чтоб накормить своих.
Первым в левом ряду двенадцати жрецов-нетератефов, несших ковчег, шел Пентаур. Юбра увидел его, и они обменялись взглядами. «А ты как сюда попал, слуга Атонов? Уж не сыщик ли?» — прочел Юбра в глазах Пентаура. «Ну, полно, какие теперь сыщики? Все мы братья», — ответил Юбра тоже взглядом, и тот, казалось, понял, — улыбнулся, как брат.
Шел в толпе и Зен-пророк: мальчик-поводырь вел его за руку. Скорбно до смерти было лицо его, — может быть, он знал, что Кики Безносый прав: только для того и перевернется земля вверх дном, чтобы пришел бог-смерд.
Вышли по улице Медников на священную дорогу Овнов. В самом конце ее тускло-красный шар луны, перерезанный черной иглой обелиска, как суженным зрачком — кошачий глаз, выкатывался медленно из-за святилища Мут.
Вдруг шествие остановилось. Впереди послышался трубный зык, барабанный бой; засвистели стрелы и камни пращей: то была застава нубийских стрелков и пращников, высланных против бунтовщиков.
Одна стрела вонзилась в подножье ковчега. Жрецы опустили его наземь; люди обступили и покрыли бога телами своими.
Натиск нубийцев был так стремителен, что ливийские наемники дрогнули и побежали бы, если бы не подоспела внезапная помощь.
Давеча Кики Безносый, с кучкою таких же, как сам он, удальцов, прошел с Хеттейской площади на ту насыпную дорогу, где работники, тащившие днем исполинское изваяние царя Ахенатона, полегли на ночь спать тут же, на дороге, кто на соломе, а кто и на голой земле. Большей части их Кики не мог добудиться: спали таким мертвым сном, что казалось, если бы земля под ними горела, не встали бы. Но меньшую часть, сотни три, поднял он одним возгласом: «Грабь!» — повел их на заставу нубийцев и, ударив ей в тыл, решил битву в пользу бунтовщиков.
Шествие двинулось дальше с победною песнью:
Горе врагам твоим, Господи!
Тьмою покрыто жилище их, —
Вся же земля во свете твоем;
Меркнет солнце тебя ненавидящих,
И восходит солнце любящих!
Дойдя до Амонова храма, прошли мимо него и завернули направо, к святилищу Хонзу. С легкостью рассеяли малый отряд мадиамских стрелков и вошли в храм. Но здесь узнали, что золотой кумир Хонзу, при первом известьи о бунте, был вынесен и спрятан в ризнице Амонова храма.
— Полно-ка, люди, бога спасать, пора и о себе подумать! — крикнул в толпу Кики Безносый, вскочив на пустое подножье кумира Хонзова. — Здесь нам поживы не будет, всё Атонова сволочь пограбила, а за рекой, в Чарукском дворце, еще много добра. Ну-ка, братцы, за реку!
Спор поднялся, чуть не драка, что делать, бога спасать или грабить.
Юбра слушал, и страх нападал на него: то ли началось, чего он ждал, или совсем другое?
Долго спорили; наконец разделились: большая часть пошла с Кики за реку, а меньшая — к Амонову храму.
Эту часть вел Пентаур. Ждали новой засады, потушили факелы. Люди шли молча, с суровыми лицами: знали, что, может быть, идут на смерть. «Все умрем за Него!» — думал Юбра с тихою радостью.
Подойдя к Амонову храму, увидели, что стражи не было. Два гранитных колосса и два обелиска, как будто стоя на страже, откинули на белокаменную площадь, залитую лунным светом, черные тени.
Пентаур с кузнецом Хафрой подошли к воротам храма. Тускло, под луною, искрилось золото их с иероглифами из темной бронзы — двумя словами: «Великий Дух».
— Руби! — сказал Пентаур.
Хафра поднял топор, замахнулся, но не посмел ударить, опустил руку. Пентаур выхватил у него топор и воскликнул:
— Поднимите, врата, верхи ваши и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
Поднял топор и ударил. Гул тяжело прокатился в звонкой пустоте за вратами, как будто из-за них ответил сам Великий Дух.
— Ахайуши, Ахайуши, дьяволы! — послышались крики в толпе.
Ахайуши — ахейцы, полудикие наемники севера, только что прибыли в Египет на службу к царю, прямо в Город Солнца. В Нут-Амоне их почти не знали, но уже ходили страшные слухи об их безумной отваге и лютости.
Выскочив сразу из трех засад, окружили они толпу бунтовщиков со всех сторон и прижали ее к стенам храма так, что некуда было бежать. А наверху, над вратами, на плоской крыше храма, тоже заблестели медные шлемы и копья; там была засада эфиопских пращников. Градом посыпались оттуда стрелы, камни и свинцовые пули пращей.
Пентаур поднял глаза и увидел прямо над собой, в одном из узких окон-бойниц в стене храма, мальчика лет пятнадцати, с черной обезьяньей мордочкой, хищным оскалом белых зубов и двумя раскосо торчавшими перьями, зеленым и красным, в черной шапке курчавых волос. Положив стрелу на тетиву, он медленно натягивал огромный, из носорожьей кости, лук и целил в Пентаура.
Тот вспомнил, как давеча ручная обезьянка, сидя на верхушке пальмы, над крышею Хнумова дома, кидала шелуху стручков в спавшую плясунью Мируит, — и чуть-чуть усмехнулся. Мог бы отскочить за выступ стены, но подумал: «Зачем? все равно убьют, да и хорошо умереть за Того, Кто был…»
Тетива зазвенела.
«Был или будет?» — успел он спросить и ответить: «Был, есть и будет!» — пока стрела свистела. Медное жало ее вонзилось в грудь его, под левым соском. Он упал на пороге запертых врат: подняли врата верхи свои, и поднялись двери вечные, и вошел Царь славы.
Юбра, стоя у ковчега, смотрел, как дралась последняя горсть ливийцев. Вдруг свинцовая пуля пращи ударила его в висок. Он упал и подумал, что умирает. Но через минуту приподнялся на локте и увидел, что ахейские дьяволы рубят ковчег. Белые завесы повисли, как сломанные крылья, обнажая маленькое, деревянное, источенное червями, закоптелое от дыма курений, углаженное поцелуями изваяньице бога. Воин схватил его, поднял, размахнулся, ударил оземь и наступил на него ногою. Божье тельце хрустнуло под нею, как раздавленное насекомое.
Юбра пал лицом на землю, чтобы не видеть.
А Пентаур спокойно умирал. Кто-то тихий-тихий, как бог, чье имя «Тихое Сердце», — то ли мальчик, похожий на девочку, то ли девочка, похожая на мальчика, — склонился над ним. «Кто ты?» — хотел он спросить, но вечный поцелуй замкнул ему уста. И тихие струны запели:
Ныне мне смерть, как мирра сладчайшая,
Ныне мне смерть, как выздоровление,
Ныне мне смерть, как дождь освежающий,
Ныне мне смерть, как отчизна изгнаннику!
Дио отправилась на свиданье с Птамозом, когда бунт только начинался в Заречьи, а по сю сторону реки еще все было спокойно.
Иссахар ждал ее у восточных ворот Апет-Ойзитской ограды, где лежало в развалинах запустевшее гробничное святилище царя Тутмоза Третьего. Выйдя из носилок и велев людям ждать у ворот, она вошла с Иссахаром в полуразрушенный пилон святилища. Подойдя к стене, покрытой сплошь изваяньями и росписью так, что не видно было пазов между камнями, он уперся плечом в стену. Подвижной, на оси вращавшийся камень повернулся, открывая узкую, темную щель. Боком пролезли в нее оба и начали сходить по крутым, вырубленным в толще скал, ступеням. Иссахар с факелом шел впереди по отлого спускавшемуся подземному ходу.
Было душно: недра земли, прогреваемые вечным египетским солнцем, никогда не простывали: солнцем напоен был мрак. «Слава тебе, Боже, во мраке живущий!» — вспомнила Дио. Здесь, казалось, и мертвым тепло лежать в гробах, во чреве земли, как младенцам во чреве матери.
Бесконечная роспись вдоль стен изображала плаванье бога Солнца по второму, подземному Нилу: в бездыханной тишине повис парус ладьи, и мертвые пловцы волокли ее волоком, через двенадцать пещер — двенадцать часов ночи, от вечного вечера к утру вечному.
Тут же иероглифы славили Полночное Солнце, Амона Сокровенного:
Когда за край неба нисходишь ты,
самый тайный из тайных богов,
то сущим в смерти свет несешь,
и, прославляя тебя из гробов своих,
воздевают усопшие длани свои,
веселятся под землею сущие!
Главный ход пересекали боковые ходы. Вдруг замелькали по ним красные светы факелов и черные тени — люди с ношами копий, мечей, луков и стрел.
— Куда несут оружье? — спросила Дио.
— Не знаю, — ответил Иссахар нехотя.
«В город, должно быть, бунтовщикам», — догадалась она.
В этих подземных тайниках Амонова храма были склады оружья, а также серебра и золота в слитках, лапис-лазури в кусках — остатки храмовой казны, утаенные от царских сыщиков. Все это собрано было на день восстанья против царя-богоотступника.
Завернув за угол, в один из боковых ходов, и пройдя его до конца, остановились у запертой дверцы в стене. Иссахар отпер ее, вошел, засветил о факел лампаду, поставил ее на пол и сказал: