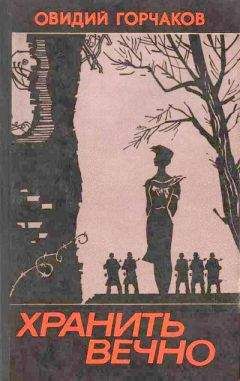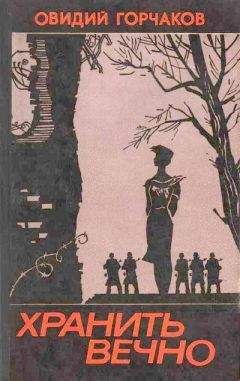На опушке леса он подозвал Юрия Никитича.
— Посмотри-ка, эскулап, что с нашим юным героем. Если не простая царапина, то так тому и быть — орден получит, заслужил, хотя штурмовой группой командовал плохо — носился сам по себе... На подводу устройте. Кстати, Мурашев, сестру вашу...
Юрий Никитич закусил губу, посмотрел исподлобья, через поле, на объятое пожаром село.
-Знаю... Идем! — Он обнял меня за плечи и повел к подводам, бормоча: — Раненым противостолбнячный укол надо делать, а нечем, тетана нет. Я же сколько раз просил...
— Как Покатило, доктор? — спросил я.
— Плохо, очень плохо...
— Вы не очень, Мурашев, горюйте,— говорил, идя вслед за нами, Самсонов. — Я и вас, и сестру вашу посмертно к ордену представлю. И тетан вам обещаю. Медикаментов я здесь много взял. За одну ночь разбить столько гарнизонов! Эта операция уж наверняка войдет в сводку Совинформбюро! А мне теперь, чем черт не шутит, полковника дадут и вам, верно, звания подкинут,— добавил он с наигранной усмешкой, оглядываясь на Кухарченко и других командиров. — Не для себя стараюсь,— зачем они мне, эти шпалы!
— для бригады. Вон за Днепром — полковник у партизан командует... Приму как признание ваших заслуг.
— Ты, главное, не забудь,— грубо заявил Кухарченко,— что без меня ты бы ни хрена не добился.
— А Алеся цела? — спросил я Юрия Никитича, когда Самсонов наконец отстал от нас.
— Какая Алеся? Ах, Буранова,— рассеянно, устало ответил он, осторожно снимая с меня мундир. — Да, я только что видел ее. Она Покатило до леса тащила. Так... На Большой земле ты повалялся бы с месячишко в госпитале, а здесь я тебя быстро вылечу... Кость не задета, сквозное, ниже сустава... — Он помазал йодом отверстия раны, засыпал их стрептоцидом. — Жгут наложим... Ты не в сорочке, часом, родился? Два-три вершка в сторону — и рана была бы смертельной.
В последний раз оглянулся я на Никоновичи. Над селом, омрачая светлеющее небо, повисла вполгоризонта серая туча, подернутая снизу отблесками бушевавшего огня. Над коньками крыш плясало пламя. В подожженном мною доме рвались боеприпасы, рухнула крыша, взметнулись веером снопы искр...
— Вот это дали копоти! — донесся из темноты восхищенный голос Кухарченко.
4
Поскрипывает немазаное колесо тряской санитарной подводы. Пахнет конским потом и кровью раненых. Солома в телеге — липкая, мокрая. Ночные тени, лениво и неохотно цепляясь за придорожные кусты и прячась под нижними лапами елок, сползают с ухабистой лесной колеи, с корневищ, больших и частых, как шпалы, неприметно растворяются в предзаревом жидком тумане, сиреневой влажной пеленой окутавшем землю. Высоко над головой изломанной узкой дорожкой светлеет небо. Вот подул предрассветный ветерок, словно вздохнула земля, просыпаясь после тяжкого ночного кошмара. На лицах живых высох пот. На лица убитых ложилась утренняя роса.
Онемевшая сразу после ранения рука отходит, оживает, как после наркоза, наливаются болью и рука и плечо, но боль пока еще терпима.
Закрыв глаза, прислушиваюсь к говору:
— Эй, кто на подводе? Ну как, сильно болит? А рядом с тобой кто?
— Митька Коршунов. Локоть ему раздробило.
— Знаю. Сам перевязку ему в бою делал. Сашко Покатило тут?
— Тут. Без памяти лежит. Закрой, Вань, глаза ему — вишь, белеют.
— Сердце-то бьется?
— Ох и всыпят нам фрицы за эти Никоновичи! Теперь держись!
— Бьется... А здорово они в натуральном виде драпали!
— Капитан наш молодец! В самой гуще был...
— Какой там молодец, сказал тоже. Управление хреновое было, связь слабая! Другие командиры, вот они молодцы — особенно Полевой, Дзюба...
— Ох и печет! Потише, ездовой! Не мешки с житом везешь!
— Убери сапожищи-то! Салом воняют!
Это мои сапоги воняют. Гуталина у нас нет, и я с вечера намазал их несоленым салом с сажей.
Друзья умолкают. Лениво ворочаются мысли в усталой после боя, неохотно работающей в этот ранний час голове. Почему-то вспоминается прошлогодний август, трудфронт, окопы под Рославлем... Наконец-то перекур. Два месяца на трудфронте! То дневная смена, то ночная. Вкалывали от зари до зари, с перерывом на обед. Жидкий суп с хлебом. Сквозь драные брезентовые рукавицы сочатся кровавые мозоли. «Перекур!» «Беженцы говорят, Минск сдали!» «Провокация!» «Вчера с пятнадцатого участка все бригады сняли, в Москву отправили»... «Приступить к работе!» Черт побери, еще пять кубометров до отбоя нужно выбросить! В этом году не придется учиться... Вряд ли успею повоевать. Опять опоздает мое поколение. Интересно, если война через год не кончится, где я тогда буду?
И вот прошел год...
— Не хнычь! Без тебя тошно.
— Захнычешь на колдобине такой. Больно небось.
— И откудова столько немчуры в Никоновичах взялось?
— Не слыхал разве? Вечером туда штаб полка с охраной прибыл — командиры в документах вычитали...
— Точно. Полк этот из двадцать восьмого отряда эн-эс-ка-ка — национал-социалистского моторизованного корпуса.
— Их там поди человек двести с лишним набралось...
— Брешешь!
— А Котиковы, а? Рабочая кость!
— У нас какие потери, не слыхал?
Четырнадцать человек. У Юрия Никитича спрашивал.
— Да, брат, здорово Покатило шандарахнуло, такую дырину листом подорожника не залепишь, до свадьбы, пожалуй, не заживет.
— Смотрите, хлопцы, что за пазухой у меня! Колбаса, коробка с конфетами, бутылка... Думал с вином, а она с нарзаном нашим, советским. Фрицы-то уж до Кавказа доперли, нарзаном балуются.
— Ох и печет!.. А в сумке у тебя что?
— Давай поглядим, кого я ухлопал. Он меня, сукин сын, ранил. Три вершка в сторону
— и капут... У тебя рука здоровая. Вынь-ка бумажник из левого кармана...
Кто на передней подводе? Что молчат, как мертвяки?
— Мертвяки и есть. Котиковых везут, Мурашеву, Евсеенко...
— Ну, что в документах сказано?
Не разберу. Темно... Штандартенфюрер какой-то. А звать покойника — Отто Бюхс. Начальник «вердорф» — вооруженной опорной деревни. И номер тот же — второй — и национал-социалистишен корпус. Это он меня, подлец, ранил.
Дзюбовцы одного полковника ухлопали — полковника Люденшельда.
Потише, ездовой! Не мешки с житом везешь!..
Эх, война, война! Какая только паскуда тебя выдумала!
Вот я и ранен. Хотя это не первая рана. Первой тяжелой раной была, конечно, Надя. Потом — Богомаз, Кузенков... Плечо заживет, а заживают ли такие, душевные, что ли, раны? Нужно ли, чтобы они заживали?
5Светлеет дорожка над головой. Санитарная подвода обыкновенная хлебная телега с высокими грядками подскакивает на корневищах, осями сдирая кору с придорожных деревьев. Пешая колонна обгоняет нас. У бойцов — воспаленные от дыма, жары и напряжения глаза, серые лица, следы копоти на одежде. Ни один не проходит мимо, не наградив раненых каким-нибудь неловким, грубовато-нежным знаком внимания и участия. Кто протянет плитку трофейного шоколада, кто о самочувствии спросит, а кто просто подарит почтительный и соболезнующий взгляд. А мимо передней подводы, наглухо закрытой плащ-палатками, проходят молча, не задерживаясь, порой с тяжким вздохом. Там — Котиковы, Мурашева. Набрякла солома. Падают и падают в пыль дороги черные капли.
Привет герою! — окликнул я Ефимова и гут же мысленно наделил себя подзатыльником, поняв, что хочу похвастаться перед ним своим ранением. Ефимов проходил мимо подводы последним, если не считать прикрывавшего санитарный обоз тылового охранения. Он шел как пьяный, не замечая ни хлеставших его по лицу ветвей, ни неровностей дороги. Услышав мое приветствие, он вскинул голову, скривил в злой усмешке губы, схватился рукой за грядку телеги. Таким я никогда его раньше не видел.
— Герой, говоришь. — Он смотрел не на меня, а прямо перед собой.
— Факт, герой! Котиковы герои, Покатило, и ты герой!..
— Чепуха! — В его голосе прозвучали те же нотки, что слышались в глухих стонах тяжело раненного пулеметчика. — Чепуха! Ничего ты не понимаешь. А я все тогда понял, в ту минуту. А сейчас это «все» начинает ускользать. В ту минуту я жизнь свою заново пережил. Что за жизнь была у меня до войны? Материально обеспечен, заграничных вещей накупил, Лещенко с Вертинским увлекался. Вино, женщины... Только их, женщин, много, а родина одна... Женщина простит, а родина?..
Я с беспокойством присматривался к Ефимову: не рехнулся ли часом наш начштаба? А Ефимов продолжал свой путаный монолог, стреляя короткими очередями слов:
— Видно, совсем не любил я. Плохо любил. Разучился любить. Если и любил, то любил за то, что она давала мне... женщина, родина... Что я давал взамен? Женщине — букетик, ресторан, оперетку... А родине? Членские взносы — исправно, пламенная речь на собрании, самый тяжелый плакат на Первое мая тащил... В газете работал, о родине только и писал, деньгу заколачивал на печатном патриотизме. Затаскал слова, торговал ими, жонглировал словами большого смысла. Сам издевался над ними, над легковерностью простачков. Плохо? Я приучил себя видеть только плохое кругом. В юности было иначе, но потом ударила меня жизнь в тридцать седьмом. Нет, решил я, и не будет никакой правды на земле! Котиковы заставили меня вспомнить правду моей юности. Надолго ли? Видно, не всегда дерево туда валится, куда оно подрублено. Я теперь правду нащупать могу. А тогда... выкрутился кое-как, решил подражать карьеристам и приспособленцам — тем, кого всегда ругал и кому тайно завидовал. Потом