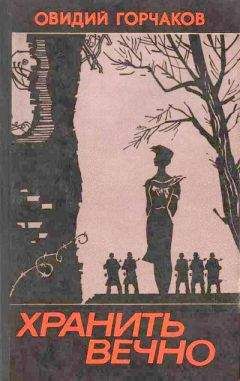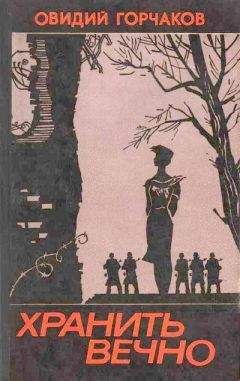— плен. И опять как в тридцать седьмом... В конце концов, думаю, нет ничего в этом мире дороже для Ефимова, чем его собственная шкура, то бишь персона. Разве не умней он, не тоньше организован большинства людей? Александр Ефимов — мыслящий человек, аристократ духа, белая кость! Ну, напялит Ефимов немецкий мундир, сменит еще раз личину. Что от этого изменится в мировом масштабе? Важно, чтобы жил Ефимов. И в отряде — что я защищал? Кого поддерживал? Выслуживался, выжигал не железом позор, а подхалимажем. А сегодня все сломалось. Эта минута стоила всей моей жизни... Что за сила толкнула Котиковых на смерть? Сколько раз я писал об этой силе, не понимая ее, я топил ее в штампах... Я знаю, знаю теперь эту силу... И все же не завидую я сейчас Котиковым. Так что же? Возврат к старому: самая геройская смерть не стоит самой худой жизни?..
— Как ты с такими мыслями в отряд шел? Ей-богу, Александр, если бы я не видел тебя ночью в Никоновичах, то подумал бы сейчас — конченый ты для нашего дела человек!
Но Ефимова нельзя было остановить. Он шел все так же спотыкаясь, подставляя лицо хлестким ветвям, вцепившись рукой в грядку телеги, слепо глядя вперед. Он говорил с каким-то самобичующим, исступленным остервенением, без обычного наигрыша, без рисовки, хотя в словах его все-таки проглядывали временами фальшь и недомолвка, чувствовалась жалостливая и влюбленная оглядка на самого себя — умного, тонко чувствующего, загубленного тяжкой судьбиной...
— «Конченый»! — уцепился Ефимов за слово. — Лучше быть конченым, чем протрезветь и увидеть себя жалким трусом. Лучше лежать с Котиковыми, с Мурашевой... А раньше я втихомолку презирал простой народ Котиковых и Мурашевых, этих неотесанных, необразованных парней, с которыми меня столкнула война. Вот так хамье, вот так быдло! Теперь-то я вижу, как мелки и однообразны были мои приятели-полуинтеллигенты!.. Позерство, культ скепсиса и позы... Сплошная подражательность, а самобытности ни на грош!.. Позерство, культ жеста и вечный кукиш в кармане... И вот я чужой среди своих. Какая мука! А кто виноват? Вчера я твердил себе, что не я. Никто не хочет признать свою вину, сваливают все на судьбу. И плывут вниз по течению. О-о-о, эта привычка к дурацкому, интеллигентскому самоанализу! «Герой»! Герой под горячую руку! Минута какого-то озарения, нестерпимого света, а за ней, быть может, еще темнее ночь. И даже сейчас я вру, декламирую, недоговариваю. Душу вот перед тобой наизнанку выворачиваю, а сколько во швах этой изнанки вшей прячется. А мне человечье, душевное, что ли, нравственное мужество теперь необходимо. Под пули на минуту сунуться — ерунда. Вот Кухарченко — ему хорошо, ни совести, ни морали...
Правые колеса телеги срываются в глубокую выбоину. Стонут раненые.
— Да заткнитесь вы наконец,— сонно говорит Коршунов за моей спиной. — Покатило-то, погляди! То от боли рычал, а теперь слезы капают...
Ефимов машинально взобрался на телегу, сел рядом со мной.
— Я считал подвигом «здоровый скептицизм»,— словно в бреду забубнил он вновь,— «свободную мысль»... Считал обязательным для мыслящей личности сомневаться во всем официальном, смеялся наделено верующими. Меня бесило стремление втиснуть все в лозунги, формулы! Всюду мерещилась агитка, плохо скрытая пропаганда. Наши ошибки и недостатки доставляли мне какую-то странную горько-сладкую радость...
Я завидовал большим людям, считал их ловкачами и обманщиками, втайне мечтал примазаться к ним. Мне не везло, я не находил признания своим талантам. Тем пуще ненавидел я механизированный, как трамвайное кольцо, круг нашей жизни. Служба, политграмота, общественная работа, даже мысли — все было обязательным, и все это, казалось мне, стесняет широту и размах моего ума, убивает мои способности, превращает меня — единственного и неповторимого — в стадное животное. Потом война... Армия стирает нас всех в паюсную икру, от икринки-личности ничего не остается. В партизанах
— икра зернистая... А я хотел быть сам по себе, отбиться от стада, получить наконец возможность свободно изъявлять свою волю. Впрочем, выбор между жизнью и смертью у меня всегда был. В этом мы все и всегда свободны...
Ефимов говорил, говорил несвязно, не переставая, и очнулся, отошел от подводы, ни разу не взглянув на меня, не кивнув даже на прощанье, только в Радькове. Было шесть утра.
Не успел Ефимов отойти и пяти шагов от подводы, как путь ему преградил Щелкунов.
Улыбаясь немного смущенно, он протянул руку Ефимову и сказал:
— Дай пять, Ефимов! Слыхал, слыхал про тебя. Ты должен простить меня. Я относился к тебе подозрительно. Я рад, что Богомаз и Самарин, вот, оказались неправы. Ведь они насчет радиостанции думали, что... Но это дело прошлое! Дай пять, Ефимов!..
Я заметил, что Самарин — он стоял поодаль и внимательно, хмуро наблюдал за этой сценой — усмехнулся, не сводя пытливых глаз с Ефимова. Бледное, помятое лицо Ефимова пошло пятнами. Он рассмеялся хрипло и коротко и, не взяв протянутой ему руки, зашагал прочь. Плечи его тряслись, но смеха не было слышно.
Щелкунов сдвинул на брови пилотку, поскреб в недоумении затылок, крикнул вслед:
— Кто прошлое помянет, тому глаз вон! Идет?
— Не спеши с выводами! — сказал Самарин и положил широкую ладонь на плечо Щелкунову. — Котиковы, Мурашевы — вот герои! И как они далеки, эти настоящие герои, от всякой самсоновщины в нашей жизни, от всех этих самсо новых и ефимовых!.. Подумай об этом!
Он отошел. Мы с Щелкуновым долго смотрели ему вслед.
В Радькове, когда уже почти совсем рассвело и начал накрапывать дождик, отряды снова встретились друг с другом.
Стало известно: бригадой разбиты наголову четыре гитлеровских гарнизона — в Никоновичах, Кузьковичах, Следюках и Перекладовичах. Взяты большие трофеи, а предусмотрительный Аксеныч вывез в подлесные деревни трофейные жнейки и веялки. Шестьсот двадцатому не удалось разгромить «Почту» — автобазы и ремонтные мастерские немцев на Могилевском шоссе. Проводник этого отряда, наш разведчик Козлов-Морозов, проплутал всю ночь в лесу. Зато под утро он вывел отряд к опустевшим, разгромленным Никоновичам, и бойцы 620-го забрали все оставленные нами в селе трофеи. Эти трофеи, как видно, они не собирались нам отдавать, но Самсонов не горевал: весть о неудаче, постигшей 620-й отряд, безмерно обрадовала его — не придется ни с кем славу делить. Потёри бригады незначительны. Тяжелей всего досталось основному отряду.
Долго спорили из-за стада коров, отбитых нашим отрядом в Никоновичах. Эти сорок две коровы были взяты из приднепровских деревень. Аксеныч просил, Полевой требовал, чтобы Самсонов отдал их крестьянам. Самсонов отказался наотрез: «Чем я буду своих партизан кормить?!» Тогда Полевой уговорил Аксеныча раздать коров, которых тот отбил в Кузьковичах, в приднепровских деревнях.
Юрий Никитич торопил партизан: надо быстрей доставить раненых в санчасть, гитлеровцы не простят нам этой ночи, кинутся, возможно, в погоню.
Когда подводы затряслись за околицей по небольшому мостику, Покатило очнулся и застонал. Юрий Никитич подбежал к подводе, склонился над изрытым оспой, широкоскулым лицом раненого пулеметчика.
— Как он? — шепотом спросил у меня Юрий Никитич, вглядываясь в мокрое от дождя, желтое, тронутое синевой лицо.
— Стошнило его.
— Это от шока, потери крови...
Бледно-голубые, устремленные в серое небо глаза Покатило, ясные прежде, а теперь затуманенные нестерпимой мукой, глядели умоляюще, почти жалобно. На светлых ресницах дрожали не то дождевые капли, не то выдавленные болью слезы. Побелевшие губы прошептали:
— Пулемет мой у кого?
Юрий Никитич достал носовой платок, смахнул розовую пену, закипавшую на губах
Покатило. Раненый облизал губы.
— Доктор... я буду жить?
— Будешь, будешь!
— Пить хочу...
— Нельзя, друг, тебе.
— Пить! — хрипло, с надрывом, просил Сашко. — Воды! Нутро горит!
— Потерпи до лагеря. Нельзя тебе, Александр, пить,— говорил Юрий Никитич. Лицо врача покрылось испариной. Он отмахнулся от бутылки с нарзаном, которую я ему протягивал.
— Глоточек один! Рот ополоснуть. Я не буду пить,— чуть слышно шептал
Покатило. — Честное слово коммуниста. Возьму в рот и выплюну...
Юрий Никитич посмотрел на меня с отчаянием.
— Все одно. Останови коня!..
Все мы — Юрий Никитич, ездовой, я и Митька Коршунов, партизан из отряда Дзюбы, забыв про собственные раны, следили за тем, как жадно вытянулись губы Саши Покатило, как дернулся и замер его кадык. Юрий Никитич наклонил бутылку горлышком к белым сухим губам, скошенные глаза закрылись, пожелтевшие Сашины щеки слабо заходили. Кадык не дрогнул. Смешанная с густой кровавой слюной вода вылилась, пузырясь, на обросший тетиной подбородок, потекла струйками по жилистой шее.
Открылись глаза, и в этих глазах, все еще затуманенных болью, не прочли мы ни страха, ни тревоги. Губы скривились в улыбку. Голос прозвучал тверже: А теперь... я буду жить?..