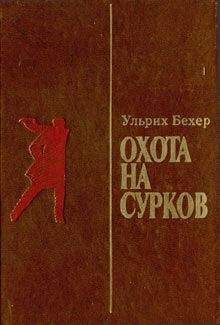— Пола, боюсь, что тебе придется…
Нетвердо держась на своих котурнах, она подошла ко мне, наклонилась, положила руки мне на затылок и поцеловала, поцеловала в середину моего лба. Старая рана ощутила прикосновение губ, и на несколько секунд у меня возникло такое чувство, словно произошло нечто крайне неприятное и даже непристойное, будто кто-то поцеловал мое вынутое из груди сердце.
— Что это такое? — спросил я. — Неужели Бонжур крадучись обходит дом и шпионит за нами, подсматривая в окна?
— Ставни герметически закрыты, никто не может заглянуть в комнаты. Ты слышишь всего лишь Цезаря, который ходит на своей километровой цепи. Разве я не говорила тебе, что от этого можно рехнуться? — Пола заковыляла к камину. Раздув огонь мехами Михела Адриансоона де Руйтера, она подняла их кверху и показала на спаги. — И все это из-за него. — Скрутила полоску газетной бумаги и зажгла сигарету в очень длинном янтарном мундштуке. — Иногда я чувствую, что он мне осточертел.
— Кто? Спаги Гогамела или Йооп тен Бройка?
— Оба.
Потягивая сигарету, она снова прилегла на кушетку.
— Тогда избавься от него.
— От кого? От спаги?
— Или от Йоопа, — сказал я. — Послушай: «Жан, тысяча восемьсот девяносто пять, Амстердам, тысяча девятьсот семь»?.. Знакома тебе эта надпись? Нет? В самой чаще леса Менчаса я наткнулся на мраморную плиту с такой надписью. И подумал, что Йооп, может быть, знает, кто этот Жан из Амстердама — погибший от несчастного случая мальчик или околевший от старости пес?
— В мире есть много такого, что остается неясным навсегда, — сказала Полари, неожиданно напустив на себя серьезность, и тут же взяла реванш: резко переменила тему разговора. — Поскольку тебе пора уходить, давай забудем на время тен Бройку… Скажи, я была у тебя первой?
— Хотя в мире есть много такого, что остается неясным навсегда… но думаю, да.
— Думаешь? Но ты должен это знать.
— Чрезвычайно запутанное дельце. Посуди-ка сама. Из уважения к отцу меня прооперировал в тыловом госпитале сам Роледер. Старший полковой врач сделал мне операцию по дороге в Бухарест, куда как раз вошли императорско-королевские войска и немцы. Скорее, впрочем, наоборот.
— Почему ты не говоришь: «Мы вошли»?
— Габсбургской монархии больше не существует. Она сама себя вышибла из истории, если можно так выразиться. Что же касается Великогерманского рейха, которым правит Шикльгрубер, то про него я тоже не скажу «мы»! Надо вообще отвыкнуть говорить о собственном народе иначе, чем в третьем лице множественного числа. Итак, после черепной операции номер один я три недели, как принято выражаться, висел на волоске между жизнью и смертью. Или вернее, менаду смертью и жизнью. И тут одному сообразительному фельдфебелю медико-санитарной службы пришла в голову богатая идея… Тем временем Роледер уехал, а я уже, хотя меня и шатало, начал потихоньку передвигаться с толстой повязкой на голове. Тем не менее я был уверен, что долго не протяну, сдохну через несколько дней, не дожив до своих восемнадцати и оставшись девственником. Офицерских борделей я избегал по причине моей, извиняюсь, «сифилисобоязни», а с первой светской львицей Брэилы, общепризнанной «пожирательницей детей», хоть и флиртовал, но дело застопорилось на полпути. Понимаешь, больше всего я жалел себя именно за это. За то, что собирался покинуть сей мир непорочным отроком.
— Mon pauvre ami[311].
— Если судить по взглядам, коими обменивались врачи в госпитале, можно было предположить, что они пришли к единому заключению, считали, что я буквально отхожу. Тогда наш фельдфебель медико-санитарной службы Штауденгерц — «на гражданке» он был золотильщиком с Оттакринга[312] — решил продлить мою молодую жизнь с помощью фантастического отвлекающего маневра. Медсестра Жозефина Вайсникс, двадцати одного года от роду, также коренная венка, слыла у нас в госпитале «дамой полусвета», может быть, из-за своих чудесных рыжевато-золотистых волос и постоянного беспечного смеха; смеясь, она старалась утешить больных с челюстно-лицевыми ранениями, которые нечленораздельно мычали, — и надо же мне было угодить в челюстно-лицевое отделение! Так вот Штауденгерц и Вайсникс устроили заговор.
— Воображаю! — заметила Полари весьма язвительно.
— «Я докажу господину обер-лейтенанту его жизнеспособность». В тот вечер — был февраль и стоял сильный мороз — фельдфебель отвез меня на извозчике к гостинице «Дунай». В хорошо протопленном номере нас встретила сестра Жозефина без формы — у нее был выходной — с шампанским в ведерке, патефоном и пластинками с цыганскими романсами.
— Значит, я все-таки была не первая.
— Чуточку терпения, Пола.
— Да, кстати, напомни мне потом о патефоне.
— Чуточку терпения, я сейчас кончу свой рассказ. Алкоголь был мне строжайше запрещен, но, оставшись наедине с веселой рыжеватой блондинкой, я подумал: куда ни шло, и выпил глоток шампанского, после чего проспал, кажется, часа три подряд.
— С этой сомнительной девицей из лазарета? И в таком состоянии? — Слегка покачиваясь на своих котурнах, Пола поднялась.
— Я могу сказать только одно: не знаю.
— Как это понимать?
— Наверно, я не спал с нею. Во всяком случае, в этом меня уверял, смеясь, золотильщик Штауденгерц. Я встретил его после войны в Вене, и он долго распространялся на сию тему. По его версии, в тот февральский вечер в «Дунае», в Гроссвардайне, я тут же погрузился в глубокий сон, напоминавший обморок. Но когда я проснулся, Вайсникс сказала — это я точно помню: «Радость моя, ты был просто великолепен, право же, ты сумасшедший любовник. Я никак не могла предположить, что ты такой ненасытный возлюбленный».
— Не-слы-хан-но! Проституткам доверяли уход за ранеными!
— Она вовсе не была проституткой. Пойми одну простую вещь: фельдфебель посвятил ее в свой хитрый план.
— План, достойный восхищения.
— Да, он бы-ы-л достоин восхищения. Подумай только: хотя я не помнил, спал я с медсестрой или нет, я надолго уверовал в то, что мне предстоит долгая жизнь. Я сказал себе: несмотря на черепное ранение, ты показал себя настоящим мужчиной.
— Ну и ну! Теперь, понимаю. Стало быть, она все это внушила тебе.
— Ясно одно: она внушила все это ему, внушила, что между нами на самом деле ничего не произошло.
— Кому?
— Штауденгерцу.
— Куда ты теперь клонишь? Не понимаю.
— Я клоню вот к чему: все покрыто мраком неизвестности. В ту пору у меня были тяжелые припадки посттравматической амнезии, провалы памяти.
— Стало быть, возможно, она действительно спала с тобой. Стало быть, вероятность того, что я была у тебя первой в лучшем случае fifty-fifty[313].
— Скажем, eighty-twenty[314]. Тогда в «Дунае» я, надо думать, был слишком слаб, чтобы совершать такие подвиги.
— Три месяца спустя, когда я встретила тебя в Тренчин-Теплице, ты уже не был слишком слаб для подвигов.
— Три месяца не такой уж маленький срок. Кроме того, Полари, меня воспламенил твой сладкий голос. Помнишь свой бенефис в курзале, где вы гастролировали? Ты исполняла Валенсию в «Веселой вдове».
Пола открыла узкий одностворчатый шкафчик на высоких ножках в стиле китайского рококо, куда был искусно встроен патефон; она поставила пластинку, погасила последние бра, и тут вдруг живой огонь камина завладел комнатой; поленья начали громче потрескивать, спаниель проснулся, покинул меня, покинул свое спальное место и уселся перед огнем, вперив в него взгляд. Отблески пламени падали на спаги, висевшего над камином; мне вдруг показалось, что он украдкой зашевелился. А потом вместо прелюдии раздалось шипение: тихонько спотыкаясь, иголка заскребла по диску, это была явно заигранная пластинка. Пола словно тень скользнула на кушетку и опять улеглась.
«Я порядочная женщина…»
Росселин: «Увы, увы я знаю это…»
Да, в комнате зазвучал молодой Легар, Легар начала века, еще далекий от того, чтобы сочинять такой «кич», как «Страна улыбок», и уж тем более от того, чтобы стать одним из любимейших композиторов фюрера. Зазвучало и очаровательное мелодичное сопрано МОЛОДОЙ Полари, которая двадцать один год назад превратила меня, еще не созревшего юнца, в мужчину. На том лесном курорте в Карпатах это сопрано подействовало на меня, как афродизиакум, как любовное зелье, вливавшееся в уши. Огонь камина отражался в старинных инкрустациях чудесной кушетки в стиле рекамье, изображавших всевозможных зверей; стеганые подушки цвета резеды казались каскадом, освещенным восходящей багровой луной. Пола, грационая и воздушная, была словно создана для этого асимметричного ложа, личико ее смутно белело, и она выглядела совсем МОЛОДОЙ. Такой же молодой, как и ее «законсервированный» голос. Не знаю уж, нарочно ли она все это подстроила, но что-то у меня в душе все-таки всколыхнулось. Вообще я не сторонник «подогревания остывших чувств», но тут вдруг ощутил готовность поддаться былому соблазну. В последнее время «я видел слишком много смертей», и это «вызвало у меня жажду развлечений». Моя предприимчивость в «Мельнице на Инне» разлетелась в прах от выстрела из карабина. А здесь будто сама судьба решила: «ПОСЛЕДНИЙ исход для тебя — назад к ПЕРВОЙ», к маленькой Полари, которая почти достигла величия. Я уже собрался было сбросить свою вельветовую куртку и пояс с патронами, который оттягивал «вальтер», но искоса взглянув вверх, увидел, что в комнате присутствует третий.