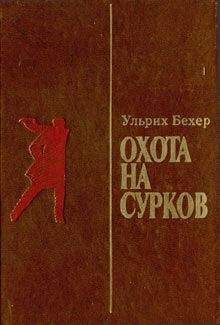— Я буду молиться за его бедную душу.
Очень деликатно Сирио потрогал лапой мое бедро. Пола подняла к пастельно-розовым губам свою брошь — только сейчас я заметил, что это был усыпанный брильянтами крестик, — и поцеловала ее.
— Почему ты с таким энтузиазмом цепляешься за старое?
— Цепляюсь за старое?
— Да. Никто не мешал тебе перейти в католическую веру, но к чему такой энтузиазм?
— Послушай, как-никак последний федеральный канцлер Австрии, их превосходительство Шушниг, и я имели одного духовника.
Этот довод вызвал во мне неистовую злость, какую могут «разбудить» разве что старые друзья; кроме того, от черного кофе с арманьяком мою усталость как рукой сняло. Я вытащил из кармана длинное письмо Эльзабе (которое скрыл от Ксаны) и стеклышко монокля.
— Вот послушай… «В день всенародного голосования мы, епископы, считаем своим подлинно национальным долгом…» Долгом! «…долгом каждого немца заявить о своей принадлежности к Великогерманскому рейху Адольфа Гитлера. И ожидаем от всех набожных христиан Австрии понимания того, как им надлежит поступать во имя своего народа». Ну? Что ты теперь скажешь? Что ты скажешь о своих пастырях? Об их обращении, которое не могло быть написано без одобрения всесильного кардинала статс-секретаря Пачелли в Риме? А что ты скажешь о людях, с которыми прошло твое детство в Леопольдштадте?
— Я ведь из Хернальса, — сказала Пола несколько неуверенно, но с ангельски-наивной улыбкой, явный признак того, что она вознамерилась разыграть очередной спектакль.
Сирио снова тронул меня лапой.
— Ах, моя дорогая, дорогая Паулина Поппер, оставь, умоляю тебя на коленях. Мне, пожалуйста, не рассказывай, что ты не-е из Леопольдштадта. Хоть ты и отрекаешься от своих детских друзей с Таборштрассе и от всех своих сородичей, отрекаешься с отменной грацией, тебе от них никуда не деться. Никто из них, надо думать, не имеет нидерландского паспорта и загородного дома в шотландском стиле здесь, в Верхнем Эн-гадине, где они могли бы скрыться от гестапо. Не так ли? Извини, что я тебе об этом напоминаю, но австрийские архипастыри — а к их пастве ты все еще, видимо, себя причисляешь — дали гитлеровцам plein pouvoir[307], с тем чтобы гестапо забрало всех евреев и засадило их в концлагерь. Могу рассказать тебе кое-что о «еврейском экспрессе Вена — Зальцбург — Мюнхен — Дахау»…
Я резко оборвал фразу, снова сунул в карман монокль и письмо Эльзабе. Несмотря на то что на последних словах я не повысил голоса, а скорее даже понизил его, Сирио почуял мое волнение и не стал больше надоедать. Пола приподнялась с кушетки «рекамье» и погасила бра, которые освещали витрину с этрусскими вазами.
— Слишком светло. — Она говорила нарочито тоненьким голосом. Потом принялась ходить взад и вперед вдоль освещенной части стены, где висели яванские куклы; Пола не очень уверенно передвигалась на своих котурнах-ходулях, можно сказать, даже ковыляла (без котурн или без высоченных каблуков она довольно маленького роста!). Юный спаниель опять тронул мою ногу.
— Ну, иди! — Я произнес эти слова совсем тихо, но пес не заставил просить себя дважды, он как мячик прыгнул с места ко мне на колени, перелез через мое бедро в пикейной штанине и стал укладываться, вращаясь вокруг собственной оси (атавистическая привычка: собаки утаптывают лапами траву, устраивая себе ложе), после чего свернулся калачиком и от удовольствия засопел. Я погладил его по молодой шелковистой мохнатой шерстке, которая потрескивала от электрических разрядов, одновременно наэлектризовывавших и успокаивающих. Пес вскоре задремал, не обращая внимания на неожиданно вступившее тремоло Полари.
— Я-я и-их спа-су!
— Не понимаю?
— Людей с Та-борштрассе. Вен-ских бедняков евреев.
Повернувшись ко мне и к Сирио спиной, она неподвижно стояла перед причудливо изломанными фигурами яванских кукол, в растрепанных, быть может нарочито растрепанных, рыжих волосах Полы вспыхивали язычки пламени, которые окружали ее голову своего рода нимбом; и эти волосы, и изломанная фигурка, и брюки, и изящество, и кажущаяся молодость — ее можно было принять за подростка — все это делало Полу похожей не то на яванскую марионетку, не то на Арлекина Пикассо. Вскоре я выяснил также, что она вообразила себя Орлеанской девственницей.
— Я подданная королевы Вильгель-мины, я мо-огу поехать в Германию. И я пробьюсь к не-му.
— К кому? — спросил я с недобрым предчувствием.
— К кан-цлеру Великогерманского рей-ха.
Теперь тремоло заговорил я, но и это не помешало свернувшемуся клубочком Сирио — он дремал по-прежнему.
— О го-споди, По-ола!
— В конце концов графиню Оршчелска-Абендшперг тен…
— Извини, извини, пожалуйста, во-первых, с тех пор как ты вышла замуж за Йоопа, ты уже больше не графиня…
— Этого ни-икто у меня не отнимет. Точно так же, как моей принадлежности к римско-католической цер-кви. О-о-он меня знает. По слухам, когда в двадцать втором я гастроли-ровала в Мюнхене, на Гертнерплац, он видел меня и восхища-ал-ся мной…
— Старушка Пола, святая простота…
— Не называй меня старушкой, мне всего тридцать семь.
Я пощадил ее чувства, не стал напоминать, что она убавила себе семь лет во имя вечной молодости.
— Даже отбросив то, что ты не оперная певица и не исполняешь Вагнера…
— Он любит и оперетту тоже. Видел меня в «Веселой вдове» и будто бы сказал: «Жа-аль, что эта Пола-ари — не арий-ка».
— Дорогая моя, умоляю тебя на коленях, прекрати и…
— Повторяешься, Требла! Ты первый и последний, кому я доверилась и изложила свой план. Но тебе не удастся отговорить меня. Даже Йоопу я не скажу ни слова, я поеду в Берлин инкогнито.
— Они тебя арестуют.
— Этого они не-е-е посмеют. Меня, подданную нидерландской королевы…
— Как ты себе вообще все это представляешь?! Шикльгрубер — самый мерзкий подонок, какого только знала история… помешанный на идее расы господ…
— Говорят, он был влюблен в Гретль Слезак, а она наполовину еврейка. Я предстану перед ним молодо-ой и красивой, я его оча-рую.
— Как вы себе это мыслите, дорогая моя?
Пола воздела руки к небу; казалось, их подняли длинные тонкие палочки, какие прикрепляют к яванским куклам-марионеткам, чтобы марионетки двигались.
— Я скажу ему: «Господин рейхс-кан-цлер… неужели я могу вызвать ненависть? По-смо-трите на меня, ваше превосходительство…»
— Пола!
— Возможно, я спою ему «Я приличная женщина». Эт-то я еще у-ме-ею.
Я чуть было не вскочил, чтобы заглянуть Полари в лицо, но не сделал это из-за Сирио, он так сладко спал. Все равно я был уверен, что Полари не играла, она действительно прониклась своими экстатическими бреднями, приняла желаемое за действительное. Поэтому я осторожно спросил:
— А потом?.. Он прекратит травлю всех неарийцев?
Она кивнула своей пламенеющей головкой.
— Гм, и пригласит на чашку чая в Оберзальцберг Альберта Эйнштейна, Зигмунда Фрейда, Стефана Цвейга и главного раввина Нью-Йорка.
— Почему бы и не-ет? Ведь и Савл стал Павлом.
— Черт подери, запью-ка я эти ужасы еще рюмкой арманьяка. — Я сунул спящего спаниеля под левую руку, налил в свою не допитую до половины чашку черного кофе арманьяка и опрокинул это снадобье, после чего опять положил к себе на колени Сирио, который так и не проснулся.
Медленно поворачиваясь ко мне лицом, Пола спросила, на этот раз уже другим, нарочито тоненьким голоском:
— Стало быть, ты считаешь план моей поездки бредовым?
— Прошу тебя, бога ради, не сердись… Я считаю его бредом сумасшедшей. Скажи лучше, как мне осуществить тот план, который занимает меня в данную минуту больше всего? Каким образом добраться сегодня до Понтрезины?
— Я бы сказала, ложись в комнате для гостей, где ты ночевал несколько дней назад, но сегодня положение несколько иное. — Я подумал, что правильней было бы сказать иначе: положение совершенно иное по сравнению с тем, какое было несколько дней назад. — Ксаны и Йоона нет. И если Йооп узнает от Бонжура…
Я разрушил ее великий план, а она, она безропотно смирилась и сразу же перешла из восторженного состояния в меланхоличное. Проковыляла мимо меня и Сирио к раздвижной двери, открыла ее, заглянула в холл, снова задвинула дверь.
— …узнает от Бонжура, что ты провел ночь здесь, в доме, он, чего доброго, застрелит тебя. — Она произнесла это непринужденным, даже индифферентным тоном. — Ты не представляешь себе, какой он ревнивый. Отчаянно ревнивый.
— Меня уже многие хотели застрелить, о-о-очень многие, — сказал я небрежно.
— Когда?
— Ну, например, во время войны.
— Хорошо, — сказала она.
— Хорошо, — послушно повторил я.
— Хорошо. А в последнее время — тоже?