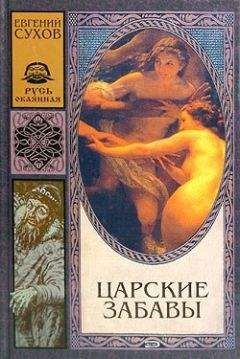Государь не услышал, как на крики жены вбежал взбешенный царевич, и в следующую секунду руки сына крепкими обручами сомкнулись на запястьях Ивана Васильевича.
— Батюшка, что же ты делаешь?! Опомнись!
Захрипел от негодования московский государь:
— На отца руку поднял, ирод!
Собравшись с силами, царь оттолкнул от себя сына, а затем с размаху запустил в Ивана жезлом.
Посох острым концом угодил в висок, вырвав клок кожи, а потом, отскочив, попал в фарфоровый кувшин, разбив его на множество цветных искр.
Иван Иванович стоял мгновение, а потом рухнул лицом на фарфоровые осколки.
Иван Васильевич некоторое время зло посматривал на распластанное тело сына, ожидая, что отрок сейчас поднимется, чтобы продолжать прерванный спор, но царевич лежал неподвижно и молчал.
Ярость на лице отца сменилась недоумением.
— Что же ты лежишь, сынок, поднимайся, — опустился Иван Васильевич на колени, — полно тебе меня пугать. Или ты думаешь, что я мало горя на свете видывал?
Молчал царевич, будто разобиделся на отца, как это не однажды бывало в детстве. А Иван Васильевич гладил безжизненное тело сына, готов был взять его за руку и повести за собой, как в ту далекую пору, когда Ванюша был беспомощен и мал. Государь прижимал голову сына к груди, умолял принять прощение, но царевич оставался нем. А когда московский государь хотел поправить его русую прядь, сбившуюся на самые глаза, то увидел на своей ладони кровь.
— Ааа! — закричал Иван Васильевич. — Господи, как же мне теперь жить?!
— Ааа! — завопила Елена.
— Господи, что же я наделал! Боже, покарай меня! — рыдал в голос царь.
Иван Васильевич обернулся, видно, рассчитывая увидеть божью длань с карающим мечом, но вместо этого разглядел Елену — в ногах у нее лежал младенец, опутанный пуповиной.
Царевич Иван второй день был в беспамятстве. Вечером заблудшая душа вернулась в его тело, и, пробудившись, Иван Иванович посмотрел на склоненную голову государя:
— Как Елена, батюшка? Родила?
— Родила, Иванушка… отрок удался. Наследник, — ласково говорил государь. — Ты только поправляйся побыстрее, сынок, сам его увидишь.
— Наследник… Господи, как же я его давно ждал. Нет, батюшка, сейчас хочу поглядеть сына, — едва шептал царевич, собираясь с силами.
— Не надо его тревожить, спит он, — едва сдерживал рыдания Иван Васильевич.
— Живой… Это хорошо. Мне так легче помирать будет. Батюшка, прости меня, дерзок я был с тобой, не всегда прислушивался к отцовскому слову. Ели и серчал ты на меня иной раз, так всегда только по справедливости. Добра мне всякого желал.
— Это ты меня прости, Иванушка, — обливался слезами Иван Васильевич. — Строг я к тебе был, милосердия не ведал. Как ты меня просил не разлучать с Евдокией Сабуровой, говорил, что любишь ее безмерно, жизни без нее себе не представляешь. А я тебя не послушал, в монастырь невестку сослал.
— Не кори себя, батюшка, понапрасну, — ласковым голосом успокаивал отца Иван, — ничто не свершается без божьего ведома. Видно, так было суждено мне… Скажи мне, батюшка, как сына моего нарекли?
Помолчал малость Иван Васильевич и, не в силах расстаться с неправдой, выдавил горько:
— Иваном крестили… Будет у нас теперь три Ивана. Как три богатыря плечом к плечу за Русь святую стоять будем, а уж вместе мы любого ворога сокрушим.
Скоро царевич Иван вновь впал в забытье и уже не слышал государя, а Иван Васильевич продолжал говорить, подбирая для своего сына самые нежные слова, какие никогда не сумел бы вымолвить еще неделю назад. Он называл его любимым сыном, надеждой России. Государь жалел о том, что мало носил сына на руках, и сейчас трепетно гладил его лицо, нежно целовал в прохладные щеки; негодовал на себя, что вечно был занят государскими делами и оттого мало уделял ему внимания. Иван Васильевич, согнувшись над телом умирающего чада, понимал, что никогда и никого не любил так крепко, как старшего сына. Слезы ручьями стекали на белое лицо царевича и, подобно живой воде, пытались вдохнуть в него жизнь, но Иван Иванович продолжал безмолвствовать.
— Господи, — страдал государь в голос, — что же я наделал! Иисусе, это в твоей власти, верни все назад! Я стану другим, буду милосердным и христолюбивым. Господи, клянусь, что не обижу червя, только верни мне сына!
Царевич не слышал нежных слов, которыми строгий отец всегда обделял наследника, не чувствовал крепкого батюшкиного объятия, которое не доставалось ему даже в самое благодушное настроение государя. Иван Иванович впал в забытье и был равнодушен к мольбам самодержца.
— Верните мне сына! — взывал Иван Васильевич к лекарям, которые угрюмо стояли подле наследника. — Если мой сынок останется жить, я не пожалею для вас никаких сокровищ. Заклинаю вас, сделайте все, чтобы Ванюша выжил!
Один из немецких лекарей, прозванный Калиной за вечно красные глаза, наклонился над царевичем Иваном и спокойно произнес:
— Все очень печально, цезарь Иван. Только бог Иисус Христос был способен на такой подвиг, когда воскресил епископа Лазаря из мертвых. Очень сожалею, цезарь, но царевич… умер.
— Господи, где мне взять столько сил, чтобы выдержать такую тяжесть… сначала почил внук, теперь любимый сын.
* * *
Не было в Русском государстве более скорбного времени. Колокола не звонили два дня. Совсем. Будто отнялись у них от горя языки. А на третьи сутки, когда настал черед хоронить, изымая из нутра душу, они зазвонили голосами плакальщиц.
И, словно откликаясь на государеву беду, зачастил дождь, погрузив столицу в сумрак.
Аукнулось по Руси государево горе скорбным набатом: из дальних и ближних вотчин топали в столицу печальники, чтобы помолиться об усопшем царевиче. Сочувствующие заняли все переулки и улицы близ дворца, стояли с непокрытыми лбами, а ливень слезами стекал по лицу. Горе змеей заползло в каждый дом, вороном черным вспорхнуло на соборы и церкви и было таким же беспросветным, как опустившаяся мгла. Иван Васильевич провожал сына в дальний путь. Он шел рядом с гробом и тихо повторял:
— Спи, родной. Ничего, скоро и я за тобой последую.
Всякий, кто мог слышать государя, давился слезами. Бояре, опасаясь за разум самодержца, окружили его заботой, бережно взяв под локотки.
А когда крышка гроба приняла первый ком земли, государя сокрушило беспамятство.
Пошел восьмой день траура. Государство окунулось во мрак. Круглые сутки в соборах проходила литургия; песнопения и молитвы не прекращались во всех церквях. Всем было ведомо, что государь Иван Васильевич отбыл в Троицу, где у алтарей простаивал по несколько часов на коленях, чтобы вымолить прощение у покойного. В соборах и церквях было светло от множества свечей, они освещали царевичу путь к господу, чтобы мятежная его душа не заблудилась в ночном небе.
На время траура скоморохов прогнали из городов, как нечестивую силу, далеко за посады, где они, не опасаясь гнева царского, могли давать концерты лешим и кикиморам.
Московский государь просил святейших не помнить худого и оказать его сыну великую милость — поминание по неделям. Преклонили иерархи колени перед горем самодержца и разрешили помин.
На сорок первый день, когда душа царевича уже отыскала в райской обители место, Иван Васильевич тяжко заболел. Он совсем не вставал с постели, все больше спал, а когда открывал глаза, спрашивал:
— Достаточно ли я дал золота и серебра в монастыри и соборы на помин души царевича Ивана… сына моего любимого?
Бояре, не смевшие отойти от постели государя даже на шаг, только недоуменно переглядывались — на те деньги, что были выделены из казны на помин души царевича, можно было бы построить еще один такой город, как Москва.
— Достаточно, батюшка-государь, — как правило, за всех отзывался Михаил Морозов.
— Отправить по ведру серебра чернецам на свечи в Донской и Симонов монастыри. И пускай помолятся с усердием о сыне моем… царевиче Иване Ивановиче.
Неделю Иван Васильевич промаялся в лихорадке: его то сотрясал озноб, а то он вдруг покрывался потом; то просил укутать его в волчьи шубы, а то повелевал распахнуть окна и двери. А когда бояре уже стали шептаться о том, что государь помутился разумом и скоро отправится вслед за сыном, царь Иван вдруг очнулся и повелел призвать к постели всех думных чинов.
Бояре и окольничие, явившиеся на зов государя, стояли с понурыми главами и не смели смотреть на ложе Ивана Васильевича, откуда на них пожелтевшими глазами царя взирала сама смерть.
— Призвал я вас, господа, затем, чтобы покаяться во многих злодеяниях. Всю жизнь прожил, словно смердящий пес, так же гадко и помираю теперь. Всех, кого любил, растерял и похоронил, сына своего старшего… не сберег. — Приподнялся государь на локтях, желая увидеть глаза холопов, но вместо лиц разглядел только плешивые головы. — Над людьми любил надсмехаться, а сколько душ безвинных загублено. И не сосчитать! Чувствую я, господа, недолго мне гулять по белому свету. Так сильно меня лихоманка растрясла, что открыл нынче утром глаза, и не знаю, кто меня прибрал: черти уволокли или, может быть, архангелы на крыльях унесли. А потом полежал малость, пригляделся и образа подле себя увидел… Не хотелось мне, бояре, без покаяния уходить. Прощения я у вас хочу просить.