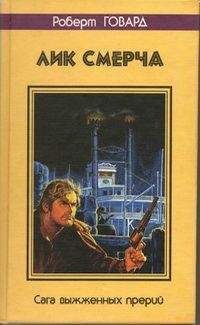— Более трех часов назад визирь удавился в тюрьме, на поясе своего халата.
Мехмед вздрогнул всем телом, кожа его при свете факелов приняла землисто-серый оттенок.
— Почему его не остановили?
— Не гневайся, о повелитель. Стража считала, что Халиль-паша выполняет твое пожелание.
Долгое время султан молчал, пустыми глазами глядя перед собой. Затем медленно произнес:
— Да. Он выполнил мое пожелание. Сухие деревья надо вырубать без сожаления.
Он обвел взглядом сидящих возле него сатрапов.
— Караджа-бей! Ты ведь был его другом?
Бейлер-бей с трудом отвел глаза от стоящей перед ним полной чаши.
— Да, господин. Мне тяжко слышать эту весть. Я не могу знать точно, но считаю, что великий визирь был оклеветан.
— Кем же? — Мехмед притворился, что не знает ответа.
— Этим нечестивым гяурским флотоводцем! — утратив выдержку, бей вскочил и затряс над головой кулаками.
— Он возвел напраслину на одного из мудрейших и самых порядочных людей твоего государства!
— Не спеши, бей, — усмехнулся султан. — Ведь Нотар правильно угадал причину появления алмаза на пальце у визиря. И обещал еще многое раскрыть из заботливо скрываемых вами тайн.
— Но почему-то при этом пренебрег твоим приглашением, повелитель. Он побежден и полностью в твоей власти, но держит себя перед султаном, как равный с равным.
— Моим приглашением? Впрочем верно, я повелел его сыновьям присутcтвовать на пиру.
— Шахаббедин!
Евнух вскочил и быстро семеня, приблизился к Мехмеду.
— Где мальчишки?
— Не гневайся, повелитель! Я желал повременить с докладом, так как читал на твоем лице работу божественной мысли.
Евнух склонился к самому уху султана и зашептал:
— Когда я передал твое пожелание Нотару, он ответил….. О, нет! Мой язык отказывается повторить эти кощунственные и неслыханные по дерзости слова.
— Я приказываю, говори!
— Он сказал…. Прости, повелитель…. Он сказал, что если ты не в силах обуздать свою плоть, он желает тебе упражняться в любви со всеми ослами и верблюдицами твоего войска.
От страшного оскорбления Мехмед онемел. Лицо его стало пунцовым, затем смертельно побледнело; лишь кончик крючковатого носа остался вишнево-красным.
— Тащите его сюда! — прохрипел он. — Вместе со всем его отродьем.
Лука Нотар бестрепетно смотрел в белые от бешенства глаза султана.
— Ты отказался от приглашения, равносильного приказу, — медленно говорил Мехмед. — Ты не только не послал своих сыновей на пир, но еще и осмеливался глумиться над величием султана, произнося слова, за которые я единоутробного брата лошадьми разорвал бы на части.
Мегадука пожал плечами и отвернулся.
— Я вижу, ты не боишься смерти.
— Я слишком устал от жизни, чтобы бояться ее конца, — ответил димарх.
— И ни о чем не сожалеешь? — Мехмед получал удовольствие от разговора с человеком, стоящим на пороге мучительной казни.
— Да, сожалею! — Нотар вскинул голову. — Я сожалею о том, когда я, в безумном своем ослеплении, призывал своих сограждан примириться с тобой, стать твоими вассалами. Каким же глупцом я был тогда! Ты — порождение Тьмы, Антихрист, исчадие Зла! Не будет людям счастья, пока теплится жизнь в твоем тщедушном теле.
— Говори! Говори еще! — Мехмед до хруста стискивал зубы.
— Что мне сказать? Радуйся, торжествуй! Великий город разрушен и опоганен тобой. Посреди сатанинского шабаша ты сидишь на костях, пируешь в лужах крови, окруженный страдальцами на кольях. Я грешен, виновен перед Богом и людьми и потому удостоен видеть этот ужас. Этот кошмар, который отказывается постичь мой разум. Я рад, что вскоре уйду из жизни. Негоже человеку жить рядом с подобием дьявола на земле!
— Ты так же рад, — Мехмед заранее смаковал удовольствие, — что твои сыновья уйдут из жизни вместе с тобой?
«Вот оно, вот!» — султан всем телом подался вперед. — «Ополоумевший старик дрогнул, покачнулся, прижал руку к сердцу. Сейчас грохнется на колени и начнет вымаливать пощаду. Значит здесь запрятана его слабая струна. Ну что ж, поиграем на ней, поиграем от души».
— А в награду за твои правдивые речи, — откинувшись на спинку сидения, Мехмед с удовольствием выговаривал каждое слово, — я позволю тебе перед смертью лицезреть казнь твоих детей.
Но мегадука уже оправился от удара.
«Пусть будет так!» — шептал он себе. — «Смерть лучше позора. Пусть души отроков избегнут скверны, чистыми вознесутся на небеса, к престолу Всевышнего».
Бормоча молитву, он смотрел остановившимися глазами, как к столу султана подтаскивали двух перепуганных подростков, как широкоплечий палач умело и точно опускал сабельный клинок на тоненькие, неокрепшие шейки, как дергались хрупкие тела, испуская из себя на землю черные при свете факелов потоки крови.
— Теперь твоя очередь! — донеся до него насмешливый голос.
Нотар не сопротивлялся, когда его схватили, вывернули назад руки и поставили на колени. До самого последнего мгновения, пока сабля не рассекла ему шейные позвонки, он горячо молился. Он молил Всевышнего обратить свой лик к земле, явить свою силу и гнев против творимых врагом злодеяний. Он молил о справедливости и возмездии….. Пустые мечты ослабших духом людей…..
Мехмед отпил вина и обвел глазами пространство давно притихшей площади. Взгляды сотрапезников пугливо уходили в сторону, страшась встретиться с горящим взором молодого владыки. Мехмед усмехнулся и перевел взгляд к небу. Там, в просвете между облаками, сонно мигали бледно-голубые звезды. Нет, он не искал среди них свое светило-покровителя. Он был чужд подобных суеверий. Но временами он чувствовал на себе устремленный из глубин Мироздания пристальный, всепроникающий взгляд Божества. В них, в этих глазах, султан видел свою мощь и силу, и до тех пор, пока он будет ощущать на себе этот взгляд, ничто не заставит его свернуть с предназначенного пути.
Мехмед очнулся от грез. К его плечу склонялся и что-то быстро шептал Саган-паша.
«А он проворен, этот лис, «- Мехмед хотя и смотрел в глаза зятю, но почти не слышал его слов. — «Еще не успел остыть труп великого визиря, как он уже метит на его место».
— Повтори! — резко бросил он.
Паша на мгновение смешался.
— Я говорил, повелитель, что никто из пленников не желает менять веру. Особенно упорствуют главы семейств. Все они занимали важные посты при дворе византийского императора. Многих из них пленили с оружием в руках.
— На что же они надеются?
— Они не признают себя твоими рабами. Они требуют свободы для себя и своих близких.
— Свободы?! — лицо Мехмеда поплыло пятнами. — Требуют?
Жажда крови, жажда убийства вновь пробудилась в нем, как в хищном звере.
— Палача сюда! — хрипло выкрикнул он.
Казнь, начавшаяся с обезглавливания Нотара и его двух сыновей, родного и приёмного, продолжалась до самого рассвета. В тот день многие знатные византийские семьи оказались вырублены под корень, а то немногое, что осталось от них, без следа растворилось в сералях султана, пашей и беев.
Джустиниани Лонг скончался на борту своей галеры. Умирал кондотьер медленно и мучительно. Но не полученная рана была тому виной — его убила собственная совесть.
Плоть вокруг простреленного места воспалилась и набухла гноем, нога отекла и приобрела синюшный оттенок. Подобные страдания были бы непомерно велики для любого человека, но Лонг почти не замечал их. Что значила для него презренная телесная боль по сравнению с невыносимыми муками души? Стыд, горечь и злость за свое невольное предательство сводили его с ума, жгли грудь горячим ворохом угольев.
"Ты отступил! Бежал…! Ничтожество и трус!» — погребальным звоном гудели в его ушах голоса.
Стремясь заглушить их, он сжимал себе голову так, что казалось — еще немного — и стенки черепа не выдержат давления, лопнут, выплескивая измученный мозг наружу. Но голоса, голоса погибших, проходя сквозь подушки, прижатые к ушам, звучали всё настойчивее: «Мы верили тебе…. Ты предал нас, обрек на смерть и муки….. Так будь же проклят на все времена!»
Но ужаснее всего были видения. Перед кондотьером, перед его горячечным, воспаленным взором, в отблесках багровых языков огня, медленно проходили друзья по оружию, все те, от кого он столь малодушно отступился: василевс Константин, Феофил Палеолог, Кантакузин, Франциск Толедский, Каттанео, Минотто и многие, многие прочие…. Они шли нескончаемой чередой, их лица были торжественны и печальны, глаза смотрели с невыразимым упреком.
И тогда он кричал. Выл глухо и протяжно, как запертый в клетке зверь. В исступлении рвал повязки на бедре, раздирая пальцами края раны. Часто наклонялся и нетерпеливо дрожа, вбирал в себя воздух, полный тошнотворного запаха начинающегося тлена.