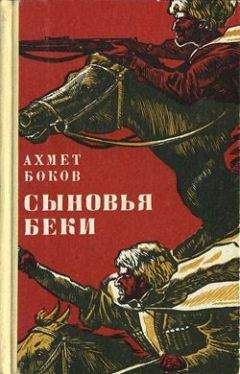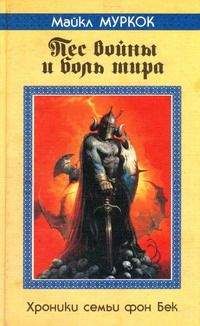Наступил полдень. Солнце изредка проклевывалось сквозь тучи, накидывало шелковое покрывало на Алханчуртскую долину, а затем, скрывшись, укутывало ее черной буркой.
Этот день и этот бой не вызывали у Хасана энтузиазма. Бой так бой! А это что?
Вдруг со стороны Согапрва показался всадник. Хасан вгляделся в него. Почудилось, что он мчится прямо на него. Кто этот человек? Не о подмоге ли из Ачалуков прискакал сообщить?
Человек подъехал к Торко-Хаджи и что-то ему сказал. Слов его никто не слышал, но по тому, как изменился в лице Торко-Хаджи, люди поняли, что случилось что-то тревожное.
Не так-то легко вывести из равновесия Торко-Хаджи. Он ни на волосок не потерял спокойствия, когда узнал, что в Алханчуртскую долину движутся бичераховцы. Не опустил головы, когда узнал, что от Кабарды с боями на них надвигаются деникинцы. Был он спокоен и нынешним утром, узнав о новом наступлении врага. А сообщение новоприбывшего заставило-таки его опустить голову. Глаза стали печальными, и весь он как-то сжался, словно на него навалили непосильный груз.
– Деникинцы заняли Долаково и Кантышево. Заняли Владикавказ, – проговорил прибывший. – Большевики отступили в горы, в Ассинское ущелье. Пока предлагают прекратить бой и нам…
Можно понять, отчего опустилась голова Торко-Хаджи.
– Там, в горах, будут собирать силы и готовить удар по врагу, – добавил всадник.
– Что же нам делать? Раз все так обернулось… – вздохнул Торко-Хаджи. – Делать нечего… Но если бы ты не прибыл, – добавил он, обращаясь к гонцу, – с таким сообщением, мы сложили бы свои головы здесь все до одного, но врага в наши села не пропустили бы.
В тот же день противник без боя занял все три села. Удивленные столь легкой победой, считая, что за этим кроется какой-то подвох, весь первый день деникинцы не решались что-либо предпринять. Это было на руку вайнахам. И многие из них подались из сел в партизаны.
Торко-Хаджи, Малсаг и командиры сотен направились в Назрань, а оттуда ушли в горы к большевикам. Ушел с ними и Хасан. Много партизан осталось в лесах.
На второй день осмелевшие деникинцы, видя, что никто не выступает против них, собрали жителей села и потребовали выдачи тех, кто воевал против них.
– А где же мы их возьмем? – сказал древний старик, хитро взглянув на офицера.
Переводчиком был бывший писарь старшины.
– Куда же они подевались? – спросил офицер.
– Вон там все, в лесу. – Старик показал палкой в сторону Тэлги-балки. – Видишь, стоят и смотрят, что здесь делается.
Взглянув туда, куда показал старик, и увидев каменные плиты на старом заброшенном кладбище, офицер побледнел. На миг он действительно принял надмогильные камни за людей.
На следующий день деникинцы ушли на восток в сторону Грозного, оставив эти «проклятые Богом» села карателям, которые должны были вскоре прибыть на смену. Заодно они прихватили с собой лучших коней, угнали коров и овец, забрали для корма лошадям всю, какую нашли, кукурузу.
7
– Врагу не пожелаешь такого! – огорченно сетует Хусен на то, что не может с места сдвинуться.
С тех пор как он упал с коня на поле боя и снова сломал бедро, дела его совсем плохи. Лежит в четырех стенах, ни света, ни жизни не видит. Даже навестить почти никто не заходит: людей-то ведь в селе совсем не осталось – кто в партизаны подался, а кто скрывается от деникинцев, а коли кто и зайдет, так ничего утешительного не скажет.
Вот сейчас сидит Гойберд. Он еще утром пришел. Раньше заходил и Мажи. Но Гойберд сказал, что прошлой ночью и он ушел в лес.
– Мой сын не будет солдатом Деникина! – торжественно заявил Гойберд.
– Теперь эти гяуры не оставят тебя в покое! – всплеснула рука ми Кайпа.
– Не оставят – вот я перед ними. Пусть делают, что хотят.
– Меня вчера Ази к себе позвал, – сказала Кайпа. – Велел, что бы оба сына явились к ним. Они ведь теперь власть. «Твои сыновья, говорит, никогда не давали мне покоя, вот и теперь душу тянут…»
– Вытянуть бы и впрямь из него эту душу! – сказал Гойберд. – Клянусь Богом, надо бы вытянуть ее совсем вон.
– А другой, чтоб он кровью истек, сидел молча.
– Саад? Как бы он ни молчал, а это его затея, выслужиться хо чет перед гяурами.
– Да разве я не знаю, что это все от него идет.
– Клянусь Богом, от него, – подтвердил Гойберд. – Теперь ведь он старшина. А Ази у него вместо собаки. За него брешет.
Как только село заняли деникинцы, Саад сделал все, чтобы стать старшиной. Он рассчитывал так сберечь богатство. И кроме того, надеялся, что, будь он старшиной, управится с сыновьями Беки без труда. Не придется больше действовать через Ази.
И стал Саад осуществлять свое намерение. Не жалел ничего – ни денег, ни овец. Кого надо – подкупил, кого надо – уговорил. Для кого надо – зарезал барана а, кому живого отдал. Не одного барана зарезал, не одного отдал! И старшиной стал.
– Мажи бы можно и не трогать, – сказала Кайпа, прервав затянувшееся молчание.
– Почему это? – встрепенулся Гойберд. – Разве он не такой человек, как все?
– Но у него ведь глаза…
– Глаза как глаза! Он воевал наравне с другими. И у Магомед-Юрта и у Курпа. Клянусь Богом, воевал, и не хуже любого храбреца.
– Да поможет ему Бог. Я просто сказала, что из-за глаз можно бы его высвободить. Ну вроде бы причина, чтобы не забрали его в деникинское войско.
– Нет, такой причины я не хочу. Мой сын, если он останется дома, останется как все. А хитрости всякие нам не нужны.
Кайпа замолчала. Что ей оставалось, коли Гойберду не по душе ее советы.
Взглянув на поджаренную корочку перевернутого Кайпой на сковородке сискала, Гойберд покачал головой.
– При новой власти мы вырастили и собрали столько кукурузы, что вполне хватило бы до следующего урожая. Так ведь на тебе – всю до зернышка собаки – деникинцы забрали. Лущить бы мне ее не надо, кто мог знать, что явятся проклятые так скоро. Я хотел мешка два обжарить, а остальное припрятать подальше – закопать, жареную они не взяли бы, потому что на корм лошадям она не годится. Но я и пожарить не успел – всю забрали.
Прикрыв свои ввалившиеся глаза, он сидел некоторое время как в дремоте, потом снова покачал головой.
– И еще хватает совести говорить, чтобы мы выставили им полк. После того как обобрали до ниточки, дай им полк! Кто пойдет к ним, тот не сын своего отца. Клянусь Богом, мой сын не пойдет. А вот воевать против них он пойдет. О, проклятые гяуры!
Разломив испекшийся сискал, Кайпа положила его на стол. Предложила Хусену. Но тот отказался, сказал, что не голоден. Как мать ни уговаривала, он так и не притронулся.
Гойберд удивленно развел руками.
– Как можно отказываться от такого сискала, – сказал он. – Съешь кусок – сразу поправишься. Клянусь Богом, поправишься, будь у тебя девять ран. А у тебя ведь – всего одна. С кукурузным сискалом ничто не сравнится.
И хотя он так расхваливал сискал, против обыкновения и сам не притронулся к нему, даже поданные Кайпой к сискалу рассол от сыра и пара луковиц не соблазнили Гойберда.
– Душа не принимает, Кайпа, – сказал он, покачав головой. – Сискал ты, как и всегда, испекла очень хорошо, да только другим я сыт в эти дни. Горе и печаль насытили меня.
Хусен удивленно глянул на всегда жадного до еды Гойберда. Кайпа тоже не стала есть. Завернула сискал в тряпицу, чтобы не остыл, и убрала.
– Султан придет, поест, – сказала она и взяла на руки внука. – Были бы у моего мальчика зубки, он бы не отказался от сискала. Эх. пусть тем, кто лишил тебя материнского молока, молоко их матерей станет ядом! Ва, дяла, сделай так!
Малыш слабенько попискивал. Видать, силенок-то в нем было не очень много.
– Хорошо бы козу иметь, – сказал Гойберд. – Дойную козу. Козье молоко, говорят, вполне заменяет ребенку грудное.
– Разве сейчас до козы или до коровы? – глубоко вздохнула Кайпа. – Проклятые, чтоб они сгорели, жизни нам не дают.