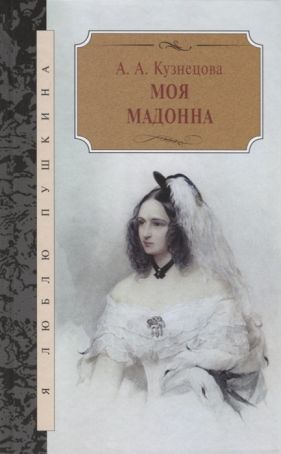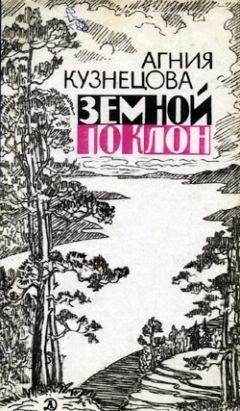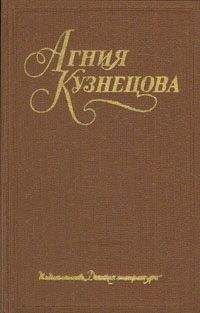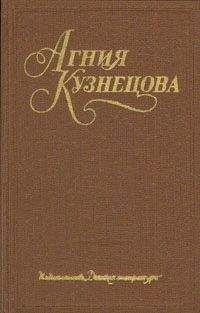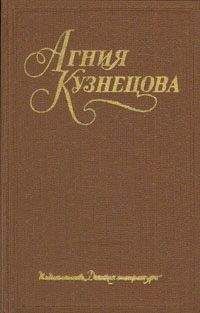тебя. И не так коротка?
Долли опустила глаза. А Надежда Сергеевна, внимательно взглянув на нее и сына, все поняла.
Байкал. Сейчас он тих и ласков. Гладко лежат его зеркальные воды, отражая синее небо и яркое солнце. Но Долли видела Байкал сумрачным, серым, когда нервная рябь искажала его поверхность от сердцевины до берегов. Видала она его грозным и буйным, с воем швыряющим пенистые волны в укрывшиеся в заливах суденышки. Он пытался вырваться из плена своих берегов — далеко заливая песчаную гладь, с мстительной, сокрушающей силой бросая на скалистые стены пену и брызги.
— Какая же красота! Неповторимая, дикая красота! — говорила Долли Григорию. Держась за руки, они медленно шли вдоль песчаного берега.
Долли была счастлива, хотя в сумочке уже лежал билет на самолет, который поднимется завтра над Иркутском в 19.00.
— Что же произошло вчера у тебя с мамой? Ты так и не рассказала мне.
— Я созналась ей, что у меня не командировка, а отпуск. Она засмеялась и ответила: «Да я это давно знаю». Тогда я призналась ей, что очень люблю тебя. И она опять сказала, что и это знает. И что любить тебя есть за что, не потому, что ты ее сын, а потому что человек ты настоящий.
Григорий остановился, засмеялся, обнял Долли, привлек к себе и, заглядывая ей в глаза, сказал:
— Как же я мечтал вот так обнять тебя, близко-близко заглянуть в твои глаза, почувствовать в них твою любовь, сказать тебе в ответ, что жизнь без тебя потеряла бы всякий смысл.
И когда назавтра в 19.00 самолет поднялся над Иркутском и взял курс на Москву, Долли сидела в кресле у иллюминатора, не замечая ничего, углубленная в свои думы.
…Она положила цветы на могилу Трубецкой… Долго не могла отвести взгляд от деревянной чаши, вырезанной на фронтоне дома Волконских. Она восприняла эту чашу как символ страданий, которую они, как и все декабристы, испили с лихвой.
— Вы, девушка, москвичка? — перебила мысли Долли соседка. Маленькая и толстая, она еле уместилась в кресле, ноги ее повисли, не касаясь пола.
— Я? Москвичка.
— Следовательно, совсем в Москву?
— Нет, не надолго. Устроить кое-какие дела и навсегда в Иркутск.
— Жаль, противный городишко. То ли дело Москва! Потоки машин, метро, дома под облаками! Народ суетится. Жизнь ощущаешь.
— Кому что, — сказала Долли, и опять вспомнился ей двухэтажный деревянный домик с высеченной деревянной чашей на фронтоне. И могила Трубецкой в ограде Знаменского монастыря.
Что-то еще говорила соседка. О чем-то спрашивала. Но Долли не слышала.
…Григорий стоял подле нее в форме курсанта военного училища, держал в руках чемодан, и его взволнованные темные глаза говорили больше, чем слова.
«Скоро ли?»
Конечно, скоро. Теперь же не надо собирать возки, на станциях сменять лошадей, месяцами тащиться по скверным дорогам.
Самолет через семь часов опустится на иркутском аэродроме. Скоро!
От автора
Работая над повестью «Под бурями судьбы жестокой…», естественно, я обращалась не только к дневникам моих предков, но и к архивным документам, письмам Пушкина и материалам, касающимся Натальи Николаевны. Тогда впервые я задала себе вопрос: что же из себя представляла жена поэта? Все мы воспитаны были на весьма определенном отношении к ней: легкомысленная красавица, любительница балов и прочих светских развлечений, препоручившая воспитание детей и хозяйство своей сестре Александре. Именно такой изображалась она и во многих художественных произведениях, и в литературоведческих работах.
Почему-то не прислушивались к Пушкину, самому главному свидетелю на этом беспощадном суде людской молвы над дорогим для него человеком. Ему, гению, выбравшему ее подругой жизни, не верили. Не верили почему-то умирающему Пушкину (он словно бы предугадывал и будущую несправедливую немилость к своей «женке», к своей мадонне): «Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском». А ведь он и раньше жаловался своей приятельнице Осиповой, что его бедная Наталья стала мишенью для ненависти света.
Несколько лет назад были обнародованы очень интересные материалы, опровергающие сложившуюся версию о Наталье Николаевне, которая до самой смерти — и после гибели Пушкина, и тогда, когда стала Ланской, любящей матерью семерых детей и бабушкой, — находилась под постоянным прицельным оком недоброжелателей. То страшное, жестокое, что было возведено на Наталью Николаевну, огромной тяжестью легло и на ее детей — детей Пушкина. Такие замечательные книги, как «Вокруг Пушкина» и «После смерти Пушкина» И.Ободовской и М.Дементьева, основанные на архивах Гончаровых и Араповой, дочери Натальи Николаевны и Ланского, открыли очень много нового для понимания характера и личности Натальи Николаевны, ее отношения к Пушкину. Могла ли бессердечная, пустая женщина, мечтающая лишь о праздных успехах, писать то письмо брату Дмитрию, которое я привожу в повести, о бедственном положении ее семьи и о нежелании беспокоить мужа мелкими хозяйственными хлопотами. Это письмо — свидетельство ее любви к мужу, ее душевной тонкости, чуткости.
Считали, что она не интересовалась делами Пушкина. Но это опровергают письма Пушкина к ней, где он пишет и о работе над «Петром» и о Пугачеве. Ом давал ей поручения по «Современнику». А в Царскосельском доме, где поселилась молодая чета и где ныне открыт музей, хранится переписанный Натальей Николаевной экземпляр «Домика в Коломне». Несмотря на возражения придворных лиц, она похоронила мужа во фраке, а не в камер-юнкерском «полосатом кафтане». Другая бы забыла фразу, оброненную когда-то в письме к ней: «Мало утешения, что меня похоронят в полосатом кафтане», а она помнила.
Сейчас, к радости, появляется все больше публикаций, где жена Пушкина предстает в другом свете…
С душевным трепетом я взялась за повесть «А душу твою люблю…». Очень много трудилась в архивах, перечитала чуть ли не все, что было в печати о Наталье Николаевне, снова побывала в местах, осененных именем великого поэта, и в тех, что связаны с Гончаровыми, Ланскими. За основу повести взята биографическая канва жизни Натальи Николаевны, но события, эпизоды даны в повести не в их