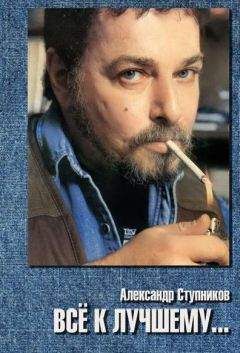Через несколько дней, уже на собрании курса, у безымянных организаторов персональных разборок произошла поначалу осечка. Выслушав все, большинство студентов проголосовало за выговор. Но это не устраивало, потому что решение сверху уже было принято. И ребят обрабатывали еще целый час, а я стоял перед всеми и думал: «О ком они говорят? И когда все это, наконец, закончится?».
Курс дожали, провели повторное голосование и – на пару поднятых рук больше – меня отчислили.
– Комсомольский билет свой не отдам,- сказал я тогда, наивный. – Не вы его выдавали.
И мне это потом припомнили, уже на факультетском сборище. Сказали, что это пример лицемерной вражеской маскировки.
– Ну что скажешь?- спросили меня, выставив перед факультетом после обличительной речи какого-то партийного обмылка.
– Что скажу?! Пришло время собирать камни.
– А ты что, еще и «Библию» читал? Пусть выложит, где ее взял.
Народу развлечение. А мне повезло. В эти времена уже не били руками.
Перед последним, университетским бюро, весь вечер и почти до утра я сидел на явке в двухкомнатной квартире у друзей, будущих математиков. Мы сочиняли мое выступление. Чтобы было коротким и доходчивым. Алик, уже пятикурсник, казавшийся совсем взрослым, за полночь завел меня в ванну, и там я репетировал свою пятиминутную речь. А он поправлял и корректировал.
– Бюро комсомола, – говорил он, – это максимум десять человек. Не толпа. Есть, кому слышать. А сегодня не тридцать седьмой год…
Он был прав – в тридцать седьмом они не разговаривали.
На бюро совещались. Меня сначала продержали за закрытыми дверями, затем выслушали, глядя по сторонам или в стол, и окончательно единогласно вычистили из своих рядов. На факультете журналистики это означало автоматическое отчисление из университета. Но через несколько дней, пока бумажки с решениями коллективов не докатятся до подписи ректора.
А причем здесь «фронтовичка?»
На улице, у главного корпуса университета, на прозрачном, как весенние платья девчонок, апрельском солнышке меня ждали друзья. Те самые. Разлетевшиеся сегодня по всему миру.
– Исключили?
Я кивнул головой. Мне хотелось стрелять от бедра, по рожам, в упор. И один из ребят сказал:
– Попробуй взять академический отпуск на год. Дают его обычно по болезни. А тебя и так качает. Шестнадцать лет максимум – старше не выглядишь. В нашей поликлинике есть врач, которая прошла всю войну, даже на передовой была. Иди к ней, расскажи, может, поможет. У фронтовиков закалка другая: не лагерно-охранная, как у «этих».
И я пошел.
Врач оказалась действительно очень колоритной: седая, в больших, с линзами очках, которые делали глаза распахнутыми на пол-лица, и с пачкой папирос «Беломорканал» прямо на столе, у аппарата для измерения давления.
– На что жалуетесь? – спросила она.
– На себя…
Через три минуты она закурила «Беломор». Через пять показала рукой – хватит, все понятно. Затем молча заполнила листки и сказала:
– Это направление к врачам и на анализы. Иди сейчас же. Завтра ты должен быть у меня. И добавила: – Это надо пережить, сынок…
Так я получил академический отпуск на год с диагнозом «истощение нервной системы». И исключить меня тогда не успели. Догнали, правда, через три года. Но уже по-другому.
– Ты единственный не комсомолец на нашем партийном факультете, – вдруг опять объявился дядька из деканата. – Мы не можем таких выпускать в жизнь. Пойди, послужи в армии…
Вместо офицерских погон и диплома впереди маячили брезентовые рукавицы разнорабочего и солдатская ссылка в монгольских степях.
Один человек мне сказал, что времена изменились.
«Может, они и меняются,- подумал я. – Если так, то почему те же козлы ведут тех же баранов?».
(БЕЛАРУСЬ, 1973)
Они встретились и полюбили друг друга. По-быстрому. Он пускал слюни у нее на плече. А она стонала, потому что мужчинам это нравится.
– Ты хороша, – солгал он и подумал: «Какой я молодец».
– Ты молодец,- соврала она и подумала: «Опять блядь в штанах попалась…».
Но ничего не сказала. Мужчины обижаются на комплименты. И он промолчал, поскольку уже думал, как бы скорее уйти. Они обменялись телефонами, просто так, для приличия. И разошлись.
Так они встретились и полюбили друг друга.
Но все закончилось хорошо.
Я снимал квартирку и не мог отказать, когда Николай попросил ключ на несколько часов.
– Всего с шести до полуночи, – колотился он. – Я отпраздную с ней Восьмое марта. Такой повод посидеть вместе одним, лучше и не придумаешь. Ты все равно пойдешь в гости. А эта такая девушка. Растакая. Бомба. Учительница младших классов, но знает все…
Мы когда-то учились с ним в школе, и там звали его просто – Палкин. Как государя императора Николая. Только царя так называли за то, что в его время били бунтовщиков. А этого Николая – за неуемную подростковую сексуальность. Мы, мальчишки, дружили классом, время было такое. Играли в футбол, слушали музыку, вместе ходили в кинотеатр, где белый полотняный экран, на который проецировали фильм, просто висел посреди сцены. И однажды показывали какой-то западный шедевр, где молодая героиня вставала во весь рост, обнаженная, лицом к герою, но спиной к зрителю, да еще с распущенными длинными волосами. И мы дружно обсуждали это видение. И Николай больше всех переживал, что ничего, самого главного, у нее не было видно.
И тогда я сказал, от балды, просто так, что, мол, если зайти с другой стороны экрана, то все интересное можно разглядеть, и в деталях. И мы снова собрались на этот фильм, заграничный и красочный. Да еще с голой женщиной, пусть даже и со спины. И когда подошло время той самой сцены вдруг возникла большая крадущаяся тень. Согнувшись, она пробежала к середине полотна и замерла – как раз напротив обнаженной фигуры. Они словно всматривались друг в друга. Зал ничего не понял, сначала затих, потом засвистел и закричал. А тень, испугавшись, скрылась.
– Ничего там не видно, – сказал после фильма Николай. – Но как узнаешь правду, если не рискнешь? Ты же сам говорил…
Это было первое разочарование в его жизни.
Потом, уже поступив в какой-то институт, для диплома, он ударился во все тяжкие и полностью оправдал свое школьное прозвище, отдаваясь скоротечной любви в подъездах, скверах и даже на кладбище, прислонив подругу к устойчивой могильной плите.
– Изучаю женскую психологию, – объяснял он, пересказывая мне очередную нечаянную встречу.
И разве можно было ему отказать в квартире на время? Да еще в женский праздник, когда им и подливать не надо.
Я дал ему запасной ключ, а сам поехал в гости. Мы пили за женщин, свободных, но занятых не мной в тот вечер, читали стихи и говорили о замечательном мире в каморке у папы Карло за нарисованным очагом, где играют «Битлз» и «Роллинг стоунс», все ходят в джинсах, любят и радуются жизни. В двадцать лет и мы радовались друг другу. Тогда за любовь еще не платили.
Далеко за полночь я добрался домой. Свет в окнах не горел. Дверь открылась легко и без скрипа. Было темно и страшно хотелось спать. Я прошел в спальню, на ходу разделся, бросив вещи на пол, и завалился на кровать.
Рядом, под рукой, вдруг материализовалось что-то мягкое, жаркое и распаренное.
– Большая… – только и подумал я.
– Ну давай, – застонала она, раскрываясь.
И я дал. А что мне оставалось делать? Это много позже сексуальная жизнь становится изощренней, чем в юности. А все потому, что с каждым годом остается больше возможностей подумать и меньше – повторить.
– А собственно, кто это? – навеялось тогда, но потом, вместе с растущим чувством голода. Я осторожно сполз с кровати, набросил рубашку и протиснулся в коридор. На кухне, как ни странно, почему-то уже горел свет. А за столом, заставленным закусками, за полупустыми бутылками вина и водки на деревянном табурете восседал…Николай. Голый и удивленный. Как белый вопросительный знак на фоне черного оконного квадрата, выходящего в мир.
Оказалось, что они вдвоем хорошо отметили праздник, и он, подтаяв, рассказал ей о своей жизни. И одиночестве. И она прониклась. Он показал ей свои мужские достоинства. Оказалось, что это недостатки.
И было все. И ничего не было, потому что он заснул и, проснувшись, пошел в туалет. А когда вышел оттуда, то услышал в спальне вздохи и стоны. И не понял, кто там и откуда. Но на всякий случай сел на кухне.
А что ему оставалось?
Я молча разлил вино, мы чокнулись и рассмеялись. Потом вышла она, уже одетая и умытая, хоть бы хны. И тихо присела между нами на уголок стола, не мешая. И мы пили оставшееся, травили анекдоты и пели под гитару «о том, кто раньше с нею был» и о штрафных батальонах.
И мартовские коты подпевали нам с улицы восходящего смуглого двадцатилетнего солнца. Чистого, как инстинкты, еще не замутненные помыслами и рассуждениями мозгов, засоренных годами жизни среди людей.