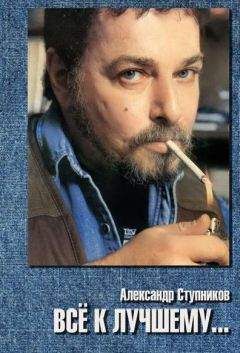– Что-то будет, – сказала Ирка.
И – как чувствовала. Геморрой с Гоморрой. Прицепились к тому, что над моим текстом была нарисована смешливая обезьянка под пальмой. Но в военной форме и отдающая честь. Нас обвинили в очернении армии – защитницы людей. Больше всего досталось мне и художнику. Пригрозили отчислением из университета. Рановато после первой же сессии. Мы пытались объяснить, что нас неправильно поняли, и каялись. Мы хотели учиться. Даже заткнувшись.
Между тем дело шло к весне, вокруг щебетали лозунги, а из литературного журнала прислали рецензию с готовностью напечатать подборку моих стихов, но после их доработки. Главным образом, чтобы вместо «я» везде было проставлено «мы».
Одно стихотворение отвергли сразу и посоветовали никому не показывать. Рецензент искренне хотел помочь. Вот оно, короткое.
То от бессилия волком завою.
То вдруг заплачу, как нищий калека.
Гляньте, опять убивают живое:
и человека, и в человеке.
Слышите, вновь расползаются сплетни.
И у мальчишек глаза запотелы.
Как совращение малолетних -
несоответствие слова и дела.
Пишутся буквы: черным по белому.
Дело за словом. Слово – за делом…
И смех, не без греха. В отличие от официозной политики – без свального.
Лекции продолжались, а я наощупь открывал для себя другой мир. Отличный от школы и далекий от Че Гевары, интербригад или западных студентов, бунтующих в своих университетах против вещизма отцов.
– Наверное, после войны произошло перерождение, – думал тогда я, мальчишка. – К управлению пролезли карьеристы, подтягивая наверх своих отпрысков, а мы, из рабочей среды, выходит, должны носить их портреты и бесконечно догонять тех, кто продвигается по праву рождения. При Сталине такого не было. Он бы не допустил…
– Ну парень, ты молодец, – говорили, увидев значок, ветераны, сидевшие в скверике за шахматными досками.
– Сними, – посоветовал кто-то из напуганных однокурсников.
– А что, он враг народа? – отбился я тогда.
Донести на меня в тот же день в деканат, видно, не успели. Или не отреагировали сразу. Думаю, меня исключили бы раньше, чем это произошло. Но мне повезло дважды. Буквально на второй день в кафе, куда я зашел перекусить, ко мне за столик подсел мужчина. Молодой, едва за тридцать. Свободных мест вокруг действительно не было. Я заходил сюда по двум причинам. Во-первых, готовили вкусно и недорого. А во-вторых, обслуживали официанты, и можно было спокойно заказать и неторопливо поесть. Как дома. Но дом был далеко. В столовых обычно ждали очередь, подносы, раздача и – бегом дальше. Это утомляло. Иногда, хотя бы раз в несколько дней, хотелось присесть и поесть спокойно.
– Интересный у вас значок… – сказал мужчина.
– Наверное.
– Вы действительно уважаете Сталина?
– Уважаю.
– Странно, – удивился он. – После всего, что при нем было? После миллионов погибших?
– А кто вам сказал про миллионы? Неотесанный Хрущев? У революции было немало врагов.
– А репрессии против крестьян или тех же первых коммунистов? Сталин как раз уничтожил и тех, кто делал революцию, и кто ее защищал. О противниках не говорю.
Он был совсем не агрессивный, это парень. Я, пожалуй, ершился больше.
– Всегда найдутся те, кто хочет выслужиться за счет других. Но вывих, говорят медики, лучше лечить сразу и резко. Дернул – и все. Это больно, но иначе можно вообще потерять ту же руку. Так и в обществе.
– Не знаю, – сказал он. – Я слаб в медицине. Почитайте побольше об этом времени. «Годы, люди, жизнь» того же Эренбурга. Поищите. Мне кажется, вы поймете, что ошиблись с этим значком. Нормальный человек не может выбрать диктатора.
– Диктатора? Он бы не допустил нынешнего вырождения.
– Сталин его и начал. Почитайте…
Когда он ушел, грустный, я допил чай, посидел еще немного и все-таки снял значок. Прислушался.
Глупость – это когда все знаешь.
А наутро пошел в центральную библиотеку республики. В этой теме она не очень помогла, но зато открылся целый мир других книг, историй и судеб. Утонув в каталоге, я случайно открыл небольшой читальный зал периодики с подшивками старых изданий. Оказалось, что главную газету страны, «Правду», издают, начиная с тридцатых годов теперь уже прошлого века. Свободно. И поехало…
Это был шок. Одно дело – читать отрывочные статьи или тем более ссылки на них в каких-то книгах. Или даже отдельный номер старой газеты. Другое – когда все идет подряд, вместе, мозаикой, валом. Гибель Кирова, отклики с демонстраций «смерть предателям», страшные по своей простоте и жестокости «письма трудящихся», требующих казни тех, на кого вчера молились. Политические процессы над коммунистами, затем над теми, кто их уничтожал, война в Испании, борющиеся в одном окопе против Франко, но враги анархисты или троцкисты, преступники-врачи, делающие аборты, тюрьма за опоздание на работу – ту, что с одним выходным в неделю. Лживое лето 1941-го, фанфарный ужас сороковых годов с неизвестной гражданской войной в Греции, осуждениями Шостаковича, Ахматовой, снижение цен и тут же обязательные государственные займы из зарплат, злобный Запад и дело «кремлевских врачей». Кампания за кампанией.
Через два месяца чтения советской прессы и журналов тех лет я стал убежденным антисталинистом. Ничто так не прочищает мозги, как обух подшивок старых газет иного времени.
Надо очень ненавидеть людей, чтобы возлюбить государство.
Мне, семнадцатилетнему, хотелось с кем-то поделиться всем этим, разобраться, посоветоваться. Ну не с девчонками же, которых я тогда тоже осваивал, разгружаясь. А поговорить?
Один человек мне сказал, что этот мир пропах дерьмом.
– Посади цветы, – ответил я и подумал: «Тут и думать нечего».
(БЕЛАРУСЬ, 1971)
Иногда оглядываешься по сторонам, но вспоминаешь о позитивном мышлении и говоришь себе: «Какие красивые и просветленные морды»…
У меня есть только одна хроническая проблема в жизни – не хочу быть несчастным. А это не прощают.
Песню Владимира Высоцкого «Антисемиты» я записал в свои восемнадцать лет. Записал прилюдно – и ответил за нее публично.
Отвечать за других – это стародавняя еврейская привычка, еще со времен раннего средневековья.
В более поздний период, в сентябре, студентов в Белоруссии направляли «на картошку» – помочь селу убрать урожай и приобщиться к настоящему труду. Труд тогда делал из обезьяны человека. И звучал гордо, потому что платили мало или почти ничего.
Гордость – это оболочка пустоты.
Второй курс университета, как впрочем и последующие, начинался именно с такого спецкурса принудительной трудотерапии. В какой-то деревне нас расселили по хатам, где я очутился вместе со своим другом-однокурсником и тезкой, уже отслужившим армию и казавшимся тогда почти «дядей».
– Жизни не видели, – говорил он нам. – Армия учит самому важному – подчиняться, а это значит руководить. Не знаешь – научим. Не хочешь – заставим…
Не сомневаюсь, что он выбился в люди.
Это трудно, но легче, чем оставаться человеком.
Наши хозяева, державшие свою корову, по утрам после завтрака выставляли на стол парное молоко с черным хлебом. Они были добрыми, потому что многое пережили, назывались поляками и говорили на «трасянке» – на русском языке, вперемешку с белорусскими словами и акцентом.
– У войну вось, полдеревни были в партизанах, а половина – в полицаях. Те придут – мобилизация. А потом – эти. Партизан тады много погибло. А полицаи апасля вернулись. Отсядзели сваё и жывуць…
С утра мы выходили в поле, копали и собирали картошку, а вечером, прикупив дешевого вина, «чернил», как его тогда называли, разговаривали, заигрывали с девчонками и играли на гитаре.
Гитара была популярным инструментом у молодежи в силу своих сексуальных форм и всеядности трех аккордов, в которых укладывалось все, о чем не говорили вслух. Но можно было спеть. Или выразительно молчать.
Я, в принципе, «дрынкать» умел и на шести, и на семиструнке. Но не пою, поскольку еще в школе, на уроке пения в младших классах, учитель как-то вызвал меня к доске солировать. Когда я закончил – класс молчал.
Молчал и учитель.
Потом он похлопал меня по плечу и сказал, обращаясь к моим одноклассникам.
– Дети, – сказал он. – Никогда не обижайте этого мальчика.
С тех пор я пел только дома. Да и то, потому что открыл для себя Высоцкого и тех, кого тогда называли бардами.
Кто-то из ребят взял гитару, и вскоре она перешла ко мне, разогретому. По молодости я тогда думал, что песни Высоцкого знают все. Не учел только одного, но важного обстоятельства: мои однокурсники, будущие журналисты, в массе своей были из белорусской глубинки или после армии.
А Высоцкий тогда еще не особо гастролировал, а его песни знали, записывали и переписывали далеко не все. Люди-то живут в своих параллельных мирах, которые часто не пересекаются. Хотя в институте или на работе могут заниматься одним делом. Но мне это и в голову не пришло.