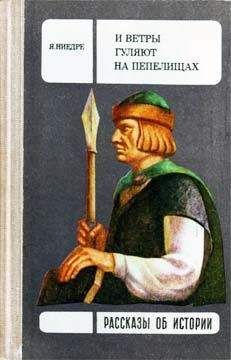Самое время было Юргису пожалеть о легкомысленном, глупом своем поведении, о необдуманном стремлении свидеться с катеградским книжником. Рано позабыл он, что не только свет сменяется тьмой и восход закатом, но и в людских делах добрые устремления меняются на жестокие. Не зря предупреждали его близкие к епископу полоцкому люди: вспоминая вчерашнее веселье, не полагайся на завтрашний день.
Вошли дудочники, рожечники с берестяными дудками и козлиными рогами, а также играющие смычком на гиге (вроде лука с натянутыми струнами), кокле (русский назвал бы ее гуслями), тридекснисе — металлическом треугольнике с бубенцами и барабанщики. Остановились поодаль.
— Слуги, несите лавки! — повелели из-за стола.
Парни в посконных рубахах и котах потащили через дверной проем длинные лавки из расколотых пополам стволов с ножками из сучьев. Музыканты и дудочники расселись.
Зазвенели кокле, раскатились в зале голоса музыкантов, ауканье, прищелкиванье. Словно весенним утром перекликались в роще птицы, радуясь жизни. Ударял барабан, как будто дятлы стучали наперебой в самый разгар своей любовной поры. Играли музыканты чужой, незнакомый Юргису напев. Немного походил он на праздничную музыку, какой в Полоцке, на вечевой площади, встречали возвратившихся с брани дружинников, что прогнали напавших для грабежа недругов.
Знать бы хоть, что они тут славят, в Категраде. Не доблесть же тех, кто схватил его, Юргиса-поповича. Может, музыканты призывают людей готовиться к большим предстоящим делам? Может, выйдет сейчас и сказитель, начнет геройскую песнь…
— Хватит! Хватит трещать! — крикнул сидевший по соседству с монахом широкогрудый, важного обличья латгал. — Языческая музыка режет слух служителя церкви святой Марии! Если нет у правителя музыки, угодной католическому богу, пусть проваливают!
— Вон их! — задрал бороду правитель. — Во двор! И подведите полоцкого лазутчика!
— Иди! — подтолкнули Юргиса сторожившие.
— Не здесь! Не здесь! — вскочил монах. — С ним я сам поговорю. В моей келье…
«Значит, есть уже у тевтонского черноризца и своя келья в замке?»
И верно, оказалось у монаха в Категраде подобие кельи; устроили ее в бывшей обители православного священника, в церковке, с которой снесли только луковицу купола и взамен водрузили католический крест. Сохранились от старого — окованная дверь, узкие, со ставнями, окошки, внутри — стена, ранее увешанная образами; ныне не осталось и следа от иконостаса, от богоматери и святителей в золотых окладах. Наверное, золото поделили как военную добычу: так случилось в ерсикской православной церкви.
В Полоцке приходилось Юргису встречать беглецов из других княжеств, из иных монашеских общин, и слышал он от них страшные рассказы о междоусобицах меж последователями разных церквей. Рассказывали: друг другу вцеплялись в волосы, себя только одних провозглашая праведными ревнителями веры Христовой, и со страстью хищников уничтожали церковники ложные, по их убеждению, евангелие и святые писания, и с подобным же рвением — и людей, кто проповедовал несозвучные им заповеди. Беглецы говорили, что своими глазами видели костры, разложенные победителями из «языческих» алтарей и икон. И костры горели, пока не рассыпался в пепел последний свиток, содержавший, как полагали победители, бесовскую мудрость.
«Видно, позвал меня тевтон, чтобы перед лицом моим сжечь размноженные в полоцком епископстве православные молитвы, — решил Юргис. На столике, рядом с подсвечниками, и вправду лежала стопка пергаментных тетрадей, исписанных разными письменами. — Кто же станет жечь? Слуга, сторонний палач или сам черный тевтон?»
— Поткрепис… — Оказывается, тевтон знал немного по-латгальски. Понимал и сказать мог что попроще. Верно, был он из миссионеров, скорее всего из цистерцианцев, коих специально готовили в Даугавпилсском монастыре проповедовать среди православных. Цистерцианцы эти, по слухам, усердно обучались местным наречиям, чтобы обходиться без помощи толмачей, хотя раньше на торжищах вдоль Даугавы, как и в городах южной и западной сторон, водилось немало знатоков, говоривших на разных языках. Они помогали в торговых делах и знали множество тайн, которые людьми умелыми покупались, продавались и в дело пускались.
— Поткрепис, — повторил монах, и дружинник, стороживший Юргиса, подал ему ломоть хлеба и кувшин воды.
«Отказаться? Принять угощение недруга — не то ли самое, что подать ему руку для примирения? Хотя горбушка да вода — не угощение. Скорее подачка убогому, изгнанному родом или правителями бродяге, чтобы не умер он с голоду перед чужой дверью и тем самым не призвал к месту своей смерти духов мщения, упырей и оборотней».
Хлеб был кислым, с отрубями, налипал на зубах. Но Юргис успел проголодаться и стал с жадностью жевать подгорелую краюшку.
— Эсчо вод? — спросил монах, когда Юргис отнял от губ опустошенный кувшин.
— Хватит.
— Корош. Путет кофорит. — Однако сесть монах Юргиса не пригласил. Дальше он заговорил по-своему, а Юргису слова его передавал толмач.
— Зачем отвязал от столба осужденного врага веры?
— У него на лбу не было написано, кто он таков. А божий закон требует, чтобы земле отдали, что ей причитается. Всякое живое создание наделено своей душой, и ей полагается свое. Если веревку свили, чтобы обвязать воз, нельзя кидать ее в грязь или вязать свиней.
— Языческая речь. У тебя глаза слезятся. От еретической проповеди и от чтения еретических писаний?
— Священник немецкий видит: я не плачу. Держусь того, чему меня учили в святом приюте. «Бог создал человека из земли, и в землю человек отойдет». Да славится господь вовеки.
— Господь славится теми, кто его почитает. Однако нет предела гневу господню на лжепророков. Еретических пастырей и старейшин господь не милует.
— Бог милостив.
— Не к тому, что от сатаны. Бог спросил сатану: откуда ты пришел? И сатана отвечал: я ходил по земле и обошел ее.
— Сатана, это верно, обошел землю. А посланный всевышним пришел к людям и проповедовал крещение, отвращение от греха и отпущение грехов.
— Посланец господень был один. А в наше время развелось сверх меры таких, кто лишь притворяется, что идет за господом. Слишком многие принялись толковать писание и сочинять мирские книги, исполненные сатанинских мудрствований.
— Но разве же катеградский иерей…
— Катеградский служитель предался дьяволу. И понес кару, какой был достоин. Где истинная набожность, там нет места ереси.
— В Ерсике до ее разрушения мирно уживались и священники из Пскова и Полоцка, и латинские проповедники. В ерсикской церкви…
— В ерсикской церкви! В Ерсикском замке правил колдун, злой колдун, — разгорячился черный монах. — В воротную башню, на самом берегу Даугавы, было вделано длинное бревно с подобным руке захватом на конце. Едва какое-либо судно пыталось проплыть мимо без остановки, колдун поворачивал бревно, и рука выхватывала с корабля людей, коих колдун там же на берегу разрывал и пожирал. Когда жалобы корабельщиков дошли до слуха святого епископа Альберта, сей слуга господень воссел на белого коня, вооружился святым мечом и двинулся, чтобы покарать колдуна. Узрев святого всадника, колдун обратился в дракона и набросился на белого коня. Однако меч епископа Альберта рассек его пополам, и колдун канул в пучину вод Даугавы. С той поры путь по Даугаве стал безопасным.
— В Ерсике предали огню замок и город.
— Их испепелило пламя из глотки дракона. Зато все истинно верующие люди освободились от власти слуг колдуна, иначе говоря — сатаны. В крае не осталось более почти ни единого греховодника, кто противился бы римской богоматери. Сын поповский должен знать: также и священник Ерсикского замка ныне послушен словам Рима.
— Ерсикский священник так не может!..
— Мудрость божия и милосердие пресвятой девы неисповедимы. Пришедшему из Полоцка будет позволено самому убедиться. Он сможет встретиться с пастырем из бывшей Ерсики в Пилишках.
* * *
— Пришедшему из Полоцка не подобает одному пускаться в дальний путь на Пилишки. Леса кишат хищниками, дороги — охотниками за рабами, — сказал Юргису черный катеградский монах. — Путника проводят до самых пилишских ворот.
Проводят, значит… Не так уж Юргис был доверчив, чтобы не понять: есть у тевтона свои особые, тайные причины. Не столько охранять Юргиса от опасностей, сколько приглядеть, чтобы не встретился он со своими прежними спутниками. Миклас и Степа остались на свободе. Иначе Юргиса не спрашивали бы: «Кто из них как одет? Какой масти были полоцкие лошади?»
В путь Юргис тронулся в сопровождении четырех ратников. Со стороны глядя можно было подумать: едет знатный человек.
Трясясь в седле, Юргис безмолвно поглядывал на жителей озерного края, гнувших спины на полях и лугах. Тут рыли межевые канавы, там окружали недавно раскорчеванные участки оградой из карчей и сучьев. Местами работавших собиралось помногу, и распоряжались ими не старейшины, как было в полоцких землях и на Темень-острове, но вооруженные молодцы — кое-кто из них, казалось, носил даже кольчугу.