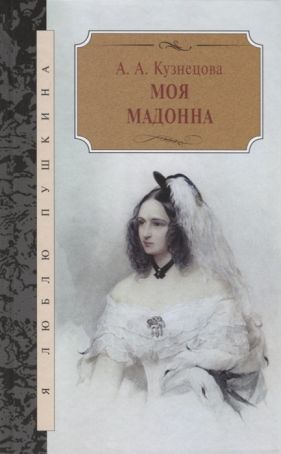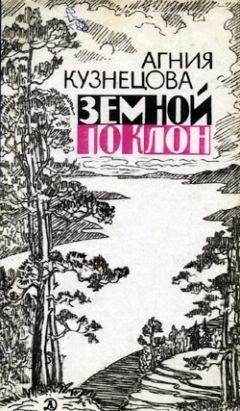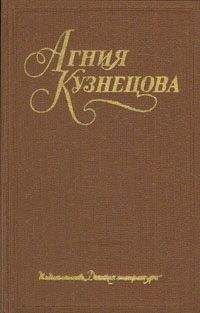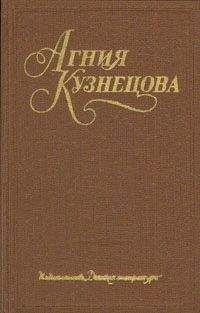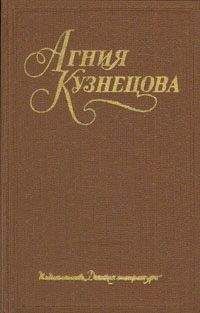тон которого может дать только природа, а не покупные румяна, не в силах видеть трагический излом левой брови, как бы говорящий о каких-то больших грядущих бедах, Петр опустил глаза.
В ту пору известная всему высшему свету Долли Фикельмон, внучка Кутузова и жена австрийского посланника графа Шарля-Луи Фикельмона, приятельница Пушкина, имела прозвище «Сивиллы Флорентийской», предсказательницы будущего. Если бы прадед мой в то время прочел записи из ее дневника, он поразился бы сходству мыслей ученой графини Долли Фикельмон и его, дворового человека Строгановых, в тех восприятиях, которые вызывала Наталья Николаевна.
Долли Фикельмон писала:
«Жена его (Пушкина) прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастия. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя… Пушкин у Вас в Москве, — писала Долли Фикельмон Вяземскому. — Жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение лба заставляет меня трепетать за ее будущее… Поэтическая красота госпожи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике — эта женщина не будет счастлива, в этом я уверена! Сейчас ей все улыбается, она совершенно счастлива, и жизнь открывается перед ней блестящая и радостная, а между тем голова ее склоняется и весь ее облик как будто говорит: „Я страдаю“. Но какую же трудную предстоит ей нести судьбу — быть женою поэта, и такого поэта, как Пушкин».
— Значит, только этот наказ. Больше ничего не будет? — откашливанием смахнув внезапную хрипоту голоса, спросил Петр и осмелился, поднял глаза, взглянул на «ангела», впервые перехватил ее чуть косящий взгляд. И показалось ему, что видит он Наталью Николаевну в последний раз. И он действительно не ошибся в своих предчувствиях.
Наталью Николаевну Петр больше никогда не видел. Помнил же всю жизнь. Не одна страница его дневника испещрена страстным признанием себе самому в неповторимом, удивительном чувстве. Часто заканчиваются эти признания пушкинским стихом:
Я пережил свои желанья, Я разлюбил свои мечты, Остались мне одни страданья — Плоды сердечной пустоты. Под бурями судьбы жестокой…
Петр писал в своем дневнике о чувстве к Наталье Николаевне и тогда, когда сватался за Олимпиаду Федоровну, и тогда, когда у него появились дети, и тогда, когда он спас от тяжелого недуга сына влиятельного петербургского князя и за это получил деньги, которых хватило купить свободу.
Я мысленно обращаюсь к тебе, мой далекий предок: твое желание, чтобы никто не знал, кто он, этот князь, я выполняю. Не назову не только имени его, но не притронусь и к внешнему его портрету. Спи спокойно! Да будет земля тебе пухом, как говорили в старину.
Помнил Петр о своем безнадежно грустном и прекрасном чувстве любви, о котором писал он в дневнике, и уже будучи служащим Билимбаевского завода:
«Две неосуществимые, страстные и прекрасные мечты мои делают жизнь мою человеческой, а не животной. Одну зовут Наталья. Другую — Воля».
Думаю, что пронес он это прекрасное чувство, так редко дающееся человеку, до того дня, когда Олимпиада Федоровна подвела черту под его дневником безграмотной записью:
«2 сентября муж мой Петр Яковлевич опосля двухлетнею страдания животом помер. Хоронили 4 ч. Дай Бог царства небесного. Соборован и приобщен святых тайн. Помер по-христиански».
В гончаровских владениях Петр пробыл несколько дней. С интересом смотрел он на то, как делают на фабрике бумагу, пачки которой — зеленые, белые, голубые — видел уже на столе графа Строганова и сам не раз выпрашивал у слуг заветные листки.
Побывал Петр и в Полотняном заводе — знал он, что прапрадед Натальи Николаевны, потомок горшечников, имевших гончарную лавку недалеко от Калуги, на реке Суходреве, построил полотняную и бумажную фабрики. Петр Первый в те времена создавал русский флот. Ему нужны были паруса. И полотняная фабрика Гончарова выпускала парусные полотна. Они и за границей имели огромный спрос.
«Весь английский флот ходил на гончаровских парусах», — говорили в народе.
Старый слуга, в комнате которого за широкой лестницей ночевали Петр и дед Софрон, всю жизнь прожил в этом доме.
Вечером, дымя с Софроном табаком, лысый старик слуга потчевал гостей жидким чаем и до полуночи заговаривал рассказами о Гончаровых.
— Прежде фабрика куды богаче была! И дом барский не сравнить! Теперь что трехэтажный, белый, что твоя казарма, полупустой. А прежде-то мебель какая была, кругом, куда глаз ни брось, бронза, люстры, фарфор, серебро фамильное… Боже мой! А какой парк был! Какие гроты, беседки! Статуи! В оранжереях даже ананасы выращивались! А на конном заводе были? Видали, какой манеж там? Кони и теперь на славу! Наши барышни отличные наездницы с детства были. Говорят, и теперь в Петербурге лучше из всех.
Петру все было здесь мило сердцу. Здесь росла она.
Старый слуга показал ему в комнате деда портрет маленькой Наташи. И он долго смотрел на тоненькое, печальное личико, уже тогда предвещавшее замечательную красоту.
В свободное время Петр бродил по парку. «Здесь ходила она, по этим аллеям. Бывала в этой церкви».
— Барыня Наталья Ивановна детей в большой строгости держала, — вечерами продолжал свои рассказы старый слуга. — Била детей по щекам. Боялись они ее шибко. Особливо Наташа. Если мать кого из детей к себе в комнату зазывала, так дочь али сын долго перед дверью стояли, не решаясь войти.
В день отъезда Петр встретился с Дмитрием Николаевичем Гончаровым. Тот принял посыльного в кабинете управляющего бумажной фабрикой.
Дмитрий Николаевич был наслышан от сестер о строгановском крепостном — очень грамотном, читающем Пушкина, отличном лекаре.
Он принял посыльного