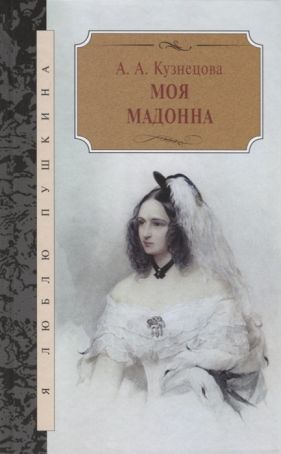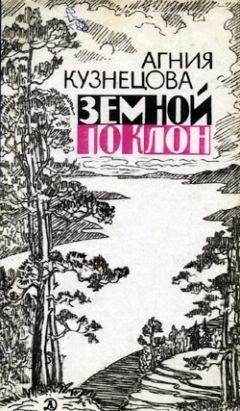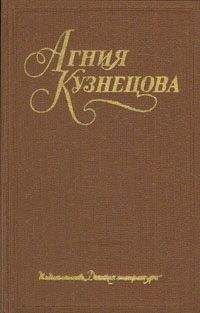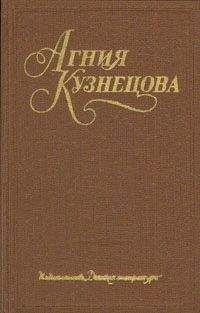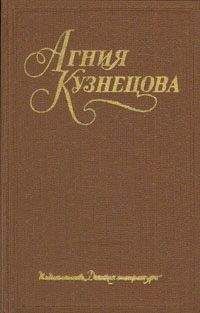приветливо. И Петр заметил опять тот же взгляд, полный любопытства, и вопрос в глазах, но в данном случае он не испытывал обычного унижения — стоять перед сидящим барином. Дмитрий Николаевич стоял. Может быть, не случайно стоял. Нарочно.
Он улыбнулся приветливо, и улыбка чем-то напоминала ее. Да и внешность брата Натальи Николаевны, несмотря на удивительную непохожесть, все же говорила Петру о том, что он ее брат.
Дмитрий Николаевич был молод, красив, энергичен, порывист в движениях. У него были, как у сестры, прекрасные черные волосы, только с другим отливом. У нее в красноватый тон, у него — в синеватый. Глаза его были темно-карие, без золота, как у нее. И разрез глаз другой. Его губы резко очерченные, полные, чувственные. У нее губы — алые лепестки несорванного цветка, чистые, нетронутые.
Вчера старый слуга рассказывал, что Дмитрий Николаевич влюбился в богатую графиню Надежду Чернышову, поместье которой с роскошным дворцом было в соседстве с Яропольцем, родовым поместьем его матери, Натальи Ивановны Гончаровой, в девичестве Загряжской.
— Хоть и богатые Чернышовы, — рассуждал старый слуга, — а баре-то не сильно, видно, их почитают. Брат Надежды Чернышовой декабрист был. А сестра Александра замужем за Никитою Муравьевым. Вот вам и баре! Вот вам и графы! — И, доверчиво понижая голос, оглядываясь на дверь, старый слуга шептал: — Дмитрий-то Николаевич боялся, что беден для Чернышовой. А Наталья Николаевна, сказывают, отписала ему, что, мол, постарайся, братец, понравиться Чернышовой. Для нее не имеет значения, богатый или бедный жених. Но вот, видно, не понравился все же. Погрустил, погрустил наш Дмитрий Николаевич да и женился на княжне Назаровой. Ничего. Славная женщина.
На чаек к гостям заглянул и швейцар. У дверей стоял он всегда важный, подтянутый, а тут — словно другой человек вошел. Пуговицы ливреи расстегнул, развалился в старом кресле.
— Ну, какие новости о наших барышнях? — прежде всего спросил он.
Петр пожал плечами.
Дед Софрон промолчал.
— Так-таки и не знаете? — захихикал швейцар. — Думаете, наверно, что у вас по-особому людские живут? Ничё не знают? Нет, братцы, шалишь! В людских все известно становится скорее, чем у бар. Не знаете рази, что в доме Пушкина такое творится, что хошь святых выноси? Сестер-то у себя зазря приютили Пушкины. Там и без них-то неразбериха шла по всем правилам.
Швейцар с нехорошей улыбкой рядом с именем Натальи Николаевны поставил имя императора Николая.
Петр пытался перевести разговор на другое. Но швейцар с упоением поведал какую-то путаную историю, в которой, кроме Натальи Николаевны и красавца корнета Дантеса, была замешана и Екатерина Николаевна.
Петр ничему не поверил. Только понял, что та, которая была для него святыней, опутана сетью грязных сплетен и в свете и в людских.
Он не спал ночь. Образ Натальи Николаевны не исчезал из его воображения. Он никогда не видел Пушкина, но она не могла допустить нечестности. В людских о Пушкине говорили хорошо. Даже здесь, в поместье Гончаровых. Чужих бар слуги обычно обливали грязью, о своих говорить побаивались. Петр много читал книг Пушкина. В Ильинском ему давали книги управляющий, поп и учитель. Сказки Пушкина с детства он знал почти все на память. Знал и многие стихи.
В Москве, читая Пушкина, сжег он не одну свечу, а в Ильинском — бесконечное множество лучин.
Не знал Петр вещего письма Пушкина, написанного жене 14 июля 1834 года:
«Но обеих ли ты сестер к себе берешь? эй, женка! смотри… Мое мнение: семья должна быть одна под одной кровлей: муж, жена, дети — покамест малы, родители, когда уже престарелы. А то хлопот не наберешься и семейного спокойствия не будет!»
Из поместья Гончаровых уехал Петр мрачнее тучи. Софрон, понукая крепкого в яблоках жеребчика и покручивая в воздухе кнутом, пытал парня о его плохом настроении. Петр не выдержал, осадил старика крепким словцом. Долго ехали молча.
К вечеру устроили привал на берегу неизвестной речушки, покрытой у берега нежным ледком, окаймленной кустарником с пожелтевшими и уже почти облетевшими листьями. Разожгли костер. Вскипятили воду, пили, сидя на поваленном дереве и перекладывая из руки в руку обжигающие железные кружки.
Памятуя дневную вспышку Петра, Софрон первый не начинал разговор. Молчал.
Петр неожиданно разговорился по душам:
— Дед Софрон, а семья-то была когда-нибудь у тебя?
— Как же, Петруша, жена была. Сыночек. Дак вот, когда два годика ему сполнилось, нас с женой и разлучили. Вишь ли, графине горничная понадобилась в Петербург. Была жена моя на глаз ладная, а уж хозяйка из нее — редкая. Все умела. Руки золотые. А меня в Билимбаевский завод отправили. Сначала вроде бы ненадолго. А потом забыли. Сыночек у сватьи остался. Не углядели — в колодце утонул. А с женой через тридцать лет в Петербурге я встретился. Ну, прибыл в Петербург, тогда еще первый раз, думаю, дай-ка с женой повидаюсь. Особливого желания уж не было. Все перегорело, переболело. Но графиня-то вроде нарочно в Петербург меня привезти велела, поближе чтоб к жене. Вспомнила!
Жена моя теперь при внуках графини. Ну, встретились.
В комнату даже впустили меня, вдвоем с Настей оставили. Смотрю и дивлюсь — чужая баба. Не сильно старая, а не узнаю — и только. Вот когда заговорила — по сердцу точно пилой провела. Голос-то тот же, тонкий, с придыхом. «Что, говорит, сынка нашего не уберег?» И в глазах слезы. «Как уберечь-то? Я же в Билимбае был». Оказалось, баба ничего и не знала. Вот такая жисть, Петр! Мой наказ тебе — не женись. Нам, дворовым, семейными быть никак нельзя. Если, конечно, баре не оженят. И так ведь бывает. Им не резон, чтобы дворовые потомства не имели. Не резон. Один убыток.
Петр выплеснул остывший кипяток из кружки, бросил ее в полотняный мешок и спросил:
— А ты, дед, о Пугачеве слыхал?
— Слыхал. Только веры во все это не имею. Ежели он в самом деле был царь, так поиграл бы с