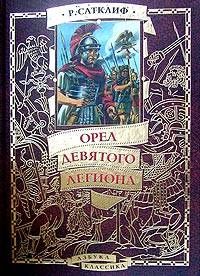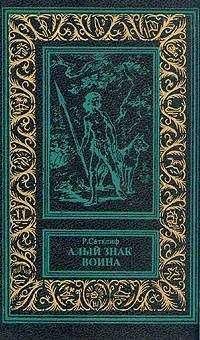В то же самое время я набросил свой собственный плащ безошибочно узнаваемого пурпура, и когда мы снова двинулись в путь, разъехавшись теперь подальше друг от друга, чтобы оставить между собой место для призрачной конницы, мы несли на длинных ветках орешника или древках копья то, что казалось вымпелами дюжины эскадронов. Тропа вывела нас на заросший папоротником и отдельно стоящими кустами склон, и я, проскакав немного дальше вдоль опушки леса, развернул Серого Сокола и увидел перед собой, как на ладони, всю картину битвы; и на ее границе уже мелькали пестрые знамена предателей. Маленький Темный Воин сказал правду. И еще — но по‑прежнему очень далеко — я видел бледное облачко пыли, поднятое людьми, шагающими по широкой насыпной дороге, ведущей от Линдиниса.
— Им еще так долго идти! Мой Бог, им еще так долго идти!
Я снова повернулся к остальным.
— Ну хорошо, поднимайте знамя снова. Теперь твоя очередь, Айдан. Протруби мне фанфары.
И, тронув каблуком бок Серого Сокола, выехал вперед вместе с чуть отстающим от меня Друзом, выбирая линию движения так, чтобы ничто не закрывало меня от неприятеля, и приостанавливаясь, чтобы сияние конской шкуры и пламенеющее алое с золотом знамя четко обозначились на фоне темных летних красок склона. Кусты и высокая придорожная насыпь по другую сторону от меня должны были скрадывать и рассеивать численность и движения остального отряда, оставляя на виду только вымпелы — эти вымпелы дюжины эскадронов: Артос и резервы его тяжелой конницы, несущиеся в обход через возвышенность, чтобы ударить с фланга! Даже на таком расстоянии я расслышал поднявшийся при виде нас рев и, оглядываясь назад перед тем, как занять свое место во главе Товарищей, снова развернуть их на север и спуститься по дороге в неглубокую складку между холмами, увидел группу всадников, уже отделяющуюся от основной массы саксонского войска и устремляющуюся к возвышенности.
Немного погодя мы позволили неприятелю снова заметить нас на гребне другой мягко вздымающейся волны вересковых нагорий, а потом помчались, как проклятые, к тому месту, где дорога, спускаясь с более высоких холмов, пересекала ручей, а дальше становилась каменистым подъемом, наполовину затерянным среди вереска, покрывающего узкую лощину. Мы достигли брода раньше Медрота и его всадников, пронеслись в туче брызг через ручей и развернулись кругом на дальней его стороне.
— Мы вряд ли найдем лучшее место, чтобы задержать их, — заметил я.
И Бедуир кивнул, вытирая лезвие меча о гриву своего жеребца — которая была почти такой же красной — чтобы оно блестело, когда он вновь пустит его в ход.
— Я никогда не видел более подходящего для меня места, — отозвался он, — и Товарищества тоже.
Наши взгляды встретились, и я подумал о том, как он сказал прошлой ночью: «Я всегда очень придирчиво выбирал компанию, в которой мне предстоит умереть».
Вдали, приглушенный подъемом местности, слышался рокот боя, похожий на рокот бури, несущейся сквозь далекий лесной край, и я уже мог различить приближающийся топот конских копыт, мчащихся в нашу сторону. Помню, я один раз оглянулся вокруг и увидел небольшую равнину, укрытую в тихом ущелье среди вересковых нагорий; ручей, серебрящийся над бродом; утесник, начинающий зацветать во второй раз, влажный и пахнущий на солнце бобами. В утеснике были коноплянки, я слышал их песню; и огромные облачные тени плыли с юга, как было в утро Бадонской битвы. Хорошее место для последнего рубежа: сзади сужающееся ущелье, а впереди — речной брод.
Я вспомнил — больше чем через полжизни — Айрака, бросающегося на неприятельские копья, и на мгновение снова почувствовал единство всех вещей, которое служит человеку утешением в его сознании, что он одинок. Да, хорошее место для конечного рубежа. К тому времени, как падет последний из нас, Константин несомненно успеет подойти…
Я оглянулся назад и по сторонам на два десятка человек, выстроившихся у меня за спиной, и по их лицам увидел, что они знают, зачем они здесь, так же хорошо, как и я. Мне хотелось сказать им теперь какое‑нибудь напутствие, что‑нибудь, чтобы укрепить души и зажечь сердца, но такие вещи годятся для армии, а здесь была горстка друзей, и вместо этого я обратился к ним так:
— Дорогие мои, мы во многих боях были вместе, а это последний из них, и он должен быть лучшим. Если в той жизни, в которую мы уходим, людям дано вспоминать, то помните, что я любил вас, и не забывайте, что вы любили меня.
Они посмотрели на меня в ответ, по‑доброму, как друг смотрит на друга. Только один из них заговорил, и это был Друз, мой знаменосец, самый младший из всех. Он сказал:
— У нас хорошая память, Артос Медведь.
А потом, вместе с новым порывом облачных теней, налетевших с болот, конница Медрота вырвалась из расстилающейся перед нами долины. Они остановились на дальнем берегу, и в течение одного долгого, молчаливого, наполненного перебором копыт мгновения один отряд смотрел на другой поверх несущегося потока. Среди всадников, выстроившихся на том берегу, были лица, которые я знал; в центре и впереди, положив обнаженный меч поперек шеи рослого чалого жеребца, сидел Медрот, и на его руке сверкал огромный браслет-дракон Принца Британии, родной брат того, что был на моей собственной. Ручей едва превышал в ширину две длины копья, так что мы могли бы разговаривать друг с другом, как разговаривают люди, сидя по разные стороны очага. Мы посмотрели друг другу в глаза и я увидел, как его ноздри раздулись и затрепетали. Потом он что‑то крикнул и ударом каблуков направил лошадь в воду, и немедленно передние из его всадников ринулись следом за ним.
А мы, на ближнем берегу, укрепили свои сердца и рванулись вперед, чтобы встретить надвигающийся удар.
Мы сражались по щетки в воде посреди брода, по подпруги в воде с обеих сторон от него, и вода взлетала стеной, взбитая копытами в мутное месиво, белая от пены, а потом покрытая ржавыми струями, расползающимися вниз по течению ручья. В воде были люди, и чья‑то лошадь взвизгнула и рухнула в ручей, перекатившись на мелководье брюхом вверх, как гигантский винный бурдюк. Снова и снова они с воплями налетали на нас, и снова и снова мы отбрасывали их обратно. Теперь и другие лошади лежали в ручье, и люди сражались врукопашную — по колени, по бедра на бурлящем мелководье; и пока что еще ни одному из предателей не удалось добраться до западного берега. Особой разницы это бы не составило; но людям, которые бьются так, как бились мы, необходимо иметь что‑то, за что можно держаться, некий бастион, который есть столько же бастион духа, сколько бастион прохода, теснины или потока; и для нас это были брод и линия этого низинного ручья… Бедуир был рядом со мной; те из Товарищей, кто еще уцелел, держались вплотную с обеих сторон, и если даже мы никогда не сражались за всю свою жизнь, о Бог богов, мы сражались тогда! И в самой гуще сошлись я и Медрот — естественно и неизбежно, словно на давно назначенную встречу.
Копьям было нечего делать в таком сражении, это была работа для мечей, будь то верхом или врукопашную, и мы с Медротом бились, почти касаясь друг друга коленями, а вокруг нас кипела вода, и брызги взлетали, как пена разбивающегося прибоя. Визжащие от ярости лошади поскальзывались и оступались среди камней брода, и мы оба отбросили щиты из бычьей кожи, которые сковывали левую руку при маневре. Медрот только оборонялся, выбирая момент, когда можно будет нанести удар. На его лице держалась слабая, радостная, странно неподвижная улыбка, и я наблюдал за его глазами, как наблюдают за глазами дикого зверя, ожидая, когда он прыгнет.
Но в конце именно я первым пробил его защиту ударом, который должен был прийтись между плечом и шеей, однако в этот самый момент его чалый споткнулся, и клинок, натолкнувшись на гребень шлема, выбросил Медрота из седла.
В своей тяжелой кольчуге он свалился с оглушительным всплеском, подняв в воздух стену воды, и тут же, пока чалый жеребец, всхрапывая, уносился прочь, снова вскочил на ноги, все еще сжимая в руке меч. Укороченный клинок этого меча обошел мою защиту и резко ударил вверх. Острие скользнуло под полу моей кольчуги и проникло в пах, и я почувствовал, как меня пронзает раскаленная, визжащая боль — все выше и выше, пока мне не начало казаться, что она проникла уже до самого сердца; я почувствовал, как вместе с ней входит смерть, увидел темную кровь, брызнувшую на плечо Серого Сокола, и лицо Медрота с по‑прежнему застывшей на нем слабой, радостной улыбкой. Небо начинало темнеть, но я совершенно четко знал, что у меня есть время и силы еще для одного удара; я дернул лошадь в сторону, так что она, часто переступая, пошла вокруг него, и когда он откинул голову назад, чтобы не упускать меня из вида, я ударил в горло, открывшееся над воротом кольчуги. Тот же самый удар, что я нанес Сердику столько лет назад. Но на этот раз я не промахнулся. Вместе с клинком наружу вырвалась кровь; она брызнула тонкими яркими струйками сквозь пальцы Медрота, когда он выронил меч и схватился обеими руками за горло; и за мгновение до того, как он упал, я увидел, что его глаза расширились в некоем удивлении. Это был момент, когда он осознал, что соединяющий нас рок требует своего завершения — не чтобы он убил меня или я его, но чтобы каждый стал погибелью другого.