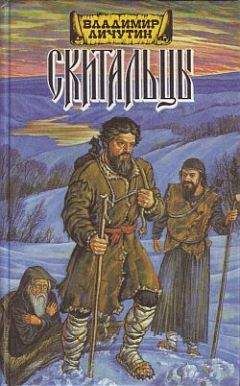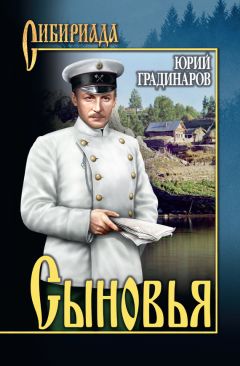Не чуя ног, Клавдя отступил в угол залы, и тут его будто забыли, собор запел ладно и трубно, с растяжкою: «Дай нам, Господи, к нам Исуса Христа...» Под эту главную молитву, шевеля губами, Клавдя обсмотрел залу: он еще не знал, кого ищет, но, увидев Таисью, снова вздрогнул. Он еще не мог привыкнуть к ее присутствию, сестра казалась видением, призраком. Она была почти рядом, наверное, от нее доносилось трудное свистящее дыхание: сестра не пела, лицо ее блестело, как намасленное, и грудь высоко вздымалась. Клавдя еще подумал: отчего лицо у сестры точно жиром обмазанное, но тут же и ощутил свое тело, липкое от пота. И понял, как жарко и душно в скрытне. Клавдя пришел в себя, приостыл, рубаха показалась холодной, противной, но вместо ушедшего восторга появилась торжественная горделивость. Видно, общая тайна не только соединяет людей, но и дает им той чести в своих глазах, коя недоступна всем прочим, непосвященным.
... Едва довели молитву, как Ефимьюшка наподхват запела, не давая перевести дух:
Как не золотая трубушка жалобненько вострубила.
Ой да жалобненько, жалобненько.
Голос ее едва проткнулся, заунывный, и умер, казалось, ни в ком не родив желанья. Для сердечного разогреву, думалось, нужен был такой голосище, чтобы кровь закипела: а от этого сиротливого, на ладан дышащего гласа лишь суетливость родится. Но ведь тут собор сидел, тайная церковь, корабль в пучине усердно пробирался ко спасенью, и любое слово богородицы, едва выдохнутое, воспринималось общиною не слухом, но душою. И «белые голуби» подхватили с протягом, с каждым словом возвышая голос и раскаляя себя. И уже белые платы-знамена, разостланные на коленях, запохватывали, будто унимали дрожь пальцев, и головы, прежде понурые, запрокинулись, чтобы легче взлетел голос...
Соберемтесь-ка мы, братцы, во един собор.
Мы посудимте, порядимте таку радость:
Уж вы верные, вы избранные,
Вы не знаете про то, вы не ведаете,
Что у нас ныне на сырой земле понадеялось:
Катает у нас в раю птица,
Она летит,
В ту сторону глядит,
Да где трубушка трубит,
Где сам Бог говорит...
И заторопились, глотая слова, кто-то уже всхлипывал, не таясь, кто-то громогласно рыдал, не промакивая платом глаз и от самих слез хмелея: там гоготали, иной взвизгивал, будто щекочут его, и все это неистовство разбуженных освобождённых натур сквозь прорезал тонкий, щемящий душу и наводящий ужас свист: словно ветер пробивался с силою сквозь тончайшую щель иль воздух утекал из молельни сразу в преисподнюю. Уже пели на том пределе сил, когда кажется, что багровые лица лопнут, взорвутся. Опустеет, вытечет человек, и душа, покинув клеть, радостно взмоет белым голубем.
Громов в своих расшитых золотом домашних чунях сбежал с престола легко, рыжая грива пласталась сзади, коленкоровая рубаха пузырилась на спине: ветер исходил от мощного, не изнуренного постами тела. Быть, наверное, такому человеку вечным, а ежели и умрет он, то как уснет. Громов протянул руки крестом, и с турецких диванов, где сидело до трехсот человек, протянулись ответные жадные, ищущие лишь прикосновения ладони, и влажные трепещущие пальцы соприкоснулись, объялись в мертвое кольцо, и хмельная сила Громова настолько переменила агнцев, что казалось, воскликни лишь, взлети – и даже он, тщедушный старец Миронушко с больными, искрученными костями, готовно взлетит. Громов резко, решительно пошел по кругу, высоко подымая, задирая ноги и топая ими по полу, и круг сам собою свился.
Пошли посолонь, высоко вздымая ноги и резко ударяя ими в один мах, без разнобоя.
Выкрикивали разом, махая руками, будто от этого кручения и возникала в теле подъемная сила.
Дышали резко, отрывисто, в крайнем возбуждении, заодно с лошадиным топаньем.
Заторопились, усилили шаг, подолы немецких платьев приоткинуло над шнурованными полусапожками.
Накатил, накатил, Дух свят, дух свят!
Уже побежали, все скорее и скорее, в головах помутилось, и глаза, налитые вращеньем, вылупливались, выкачивались, выпячивались, готовые пролиться под ноги.
Царь-дух, царь-дух
Разблажился, разблажился!
Таисью подхватила чья-то рука, резко придернула к себе, людское распаренное теченье вовлекло в себя и утопило.
Пока робко, но с каждой пробежкой усиливая голос, подхватила Таисья. Зала сдвинулась, все смешалось и превратилось в один распустившийся цветок.
Внутри пустело, восторг переполнил, настоянный потом своим ли иль тех трехсот радельщиков, что опьяни-лись уже неистовым круженьем.
Но голову Таисьи сжало будто бы железными обручами, она знала за собой это состояние и пугалась его. Ей стало настолько тяжко, что впору было умереть, и смерть показалась бы желанной. Она не от бега задыхалась, но от желанья освободиться. И закричала пронзительно, почти завопила, как роженица, не зная этого чувства, но постоянно испытывая его. Она натужилась, побагровела, запруда лопнула, и ею как бы выстрелило из огромной неведомой пращи. И Таисья полетела в занебесье, с легкостью покидая на земле неистовое скачущее свое тело.
Свет во мне, свет во мне!
Крохотные люди, как муравьи, толклись по зале, мешались, сновали по особой своей нужде: они еще не знали грядущего дня и будущей жизни своей, и было так жаль их, не ведающих, что творят. Заблудились, сердешные, и нет для них пророка. С печатями на теле, как прокаженные, с худыми помыслами на душе, отягощенные грехами и чужими напрасными слезами и страданиями, они напрасно торопились приобщиться к ангельскому чину. Кто бы их образумил, Господи. И пошто-то Бог, родитель наш, видя сие, не остановит бесовское игрище?
Таисья скинула армячишко, осталась в одной власянице, сквозь прорехи виделось белое, молодое, еще не изношенное тело. Великоватые груди тяжело вздрагивали, и в такт им звенели десятифунтовые цепи, обвившие тело, как змеи.
Дух! Ой ега, ой ега.
Евой!
Весь корабль поворотился боком и стал скакать по кругу, взмахивая руками. Но не взлететь им, не взлететь, уже не нагнать бродячую пророчицу, которая завтра намерилась покинуть «белых голубей» навсегда.
Дух евой, дух евой, дух евой!
Кто-то уже закрутился на одной пяте, подобно вихрю, так что лица не распознать. И Таисья, та, что осталась в зале, тоже завращалась на пяте, перебирая второю ногою и резко ударяя о пол.
Сей дух, сей дух, сей дух!
Царь-дух, царь-дух!
Благодать, благодать!
Кто-то резко, гортанно выкрикнул: «Благодать накатила!», и этот пронзительный голос удивительным образом перекрыл многослойный шум и замирил его. Зала стихла, и все разом пали на колени, усердно молясь и дожидаясь вещего слова. И Громов запророчествовал, выговаривая каждое слово, вытаскивая его из глубин естества через непонятную силу и сопротивление, дух вселился в него, и от того, как этот дух разливался в просторном теле, кормщика корежило всего и ломало, и белые глаза походили на перламутровые полые раковины. Но не глазами видел сейчас Громов, но иным чувством, и все было доступно ему. И обратился он к кораблю со словами, идущими от Бога:
Возлюбленные други!
Вы себя не тревожьте,
Надежду на меня, святого духа, положьте,
Собор я вам крепкой стеной огорожу,
На караул легион ангелов пошлю...
Врага злого на сто сажен к собору не допущу.
А вы мне, святому духу, верьте,
Живую благодатную воду мою пейте,
Подите, други, кораблем порадейте,
В духовной моей бане попотейте...
Он бы еще долго вещал, но мешала скиталица, юродивая с веригами: не обращая внимания на корабль, она кружилась, не зная устали, и звон цепей сбивал Громова с мысли. Все стояли на коленях, усердно крестились, но баба эта и молящихся сбивала с молитвенного настрою. А Таисье показалось, что больно долго она летит, она заморилась подыматься в кручу: вот и пятое небо, и шестое, где совсем недавно побывала. Скоро-скоро Божьи златые врата... Но, Господи, как болят уши, какой пронзительный тяжкий свист в них, голова разваливается надвое. И сердце так устало, готовое взорваться. Таисья взглянула вниз и пожалела себя, брошенную, заведенную на бессмысленное крученье, с набухшим сердцем и ошалелой головой. «Зачем я там? – с тоскою подумала она. – Не рожаю, не пашу, не сею». Случайно посмотрела Таисья на свои ноги и увидела набухшие черные жилы, живущие на самом пределе, когда кровь готова свернуться. И своих натруженных ног ей тоже стало жаль. Она пересилила полет, перевела дыханье и решила возвратиться. И чем ниже опускалась пророчица, тем медленнее кружилось брошенное ею собственное тело. И где-то невдали от земли увидала Таисья, как малую пташицу, голубку сизокрылую, треплет воронье, только перышки осыпаются. И до того дотрепали сердешную, до того доизмывались, едва головенка держится...