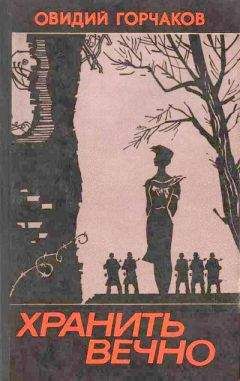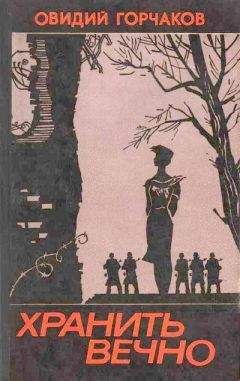За Проней
1— Раненые! Сюда! — громким шепотом зовут Юрий Никитич и Люда.
Сирота в изнеможении опустился на студенистую кочку. Бурмистров взобрался на другую кочку, держась за кривую осинку, как цапля поджав забинтованную, облепленную грязью ногу. Чья-то холодная, мокрая, скользкая рука касается моей руки.
— Смотри, опять рана засочилась!
Алеся — в широком мужском пиджаке, стянутом в талии немецким ремнем. Я знаю этот ремень — он принадлежал Наде Колесниковой. Только Алесе он впору. Ноги у нее босы, штанины брюк закатаны до колен. Поверх брюк — короткая юбка. На спине — вещевой мешок, через плечо — туго набитая армейская медицинская сумка с красным крестом. На ремне висят пистолетная кобура и алюминиевая фляжка в замшевом чехле с водой для раненых. В одной руке она держит свои маленькие хромовые сапожки, другой, свободной, пробегает осторожно по рукаву моего мундира. Сунув сапоги за пояс, она бережно набрасывает на мою левую руку петлю перекинутого через шею бинта. Волосы ее, мягкие, теплые, щекочут мне губы. От Алесиных волос пахнет дымом костра и санчастью, и этот стерильный, лекарственный запах рождает какое-то смутное, неизъяснимо-блаженное чувство госпитальной тишины...
— Так лучше,— шепчет она. — Так Юрий Никитич велел. — И добавляет, исподлобья матово блеснув глазами: — Твой мешок у меня.
Мне становится жарко. Черт возьми, я бросил свой вещевой мешок в Кульшичах, на подводе!.. Алеся опускает чуть-чуть раскосые глаза и едва слышно говорит:
— Я подумала. Ты мне тоже нравишься...
У меня захватывает дух. Я растерян, не знаю, что говорить, что делать. В первую минуту мне становится почему-то смешно, страшновато, немного стыдно и весело. Потом захлестывает жгучая радость. Я дерзко — робея лишь в последнее мгновение — касаюсь губами ее волос. Опасность сблизила нас, придала нам смелости. Я счастлив. Соловьем заливается в Кульшичах скорострельный пулемет. Невыразимо прекрасна оплывающая в болотном тумане луна. Лунные партизанские ночи! До чего ж вы, однако, хороши! И все-таки чудесно, что мне всего семнадцать лет!
Болото наполняется вдруг звуками, оживает смутным движением. «Пошли!» Я привлекаю Алесю к себе здоровой рукой, и ее холодные, влажные, пахнушие земляникой губы скользят по моей щеке. Словно снежинка на щеке растаяла, но все во мне загорелось ласковым огнем, загудело от тока неведомых чувств. И я понимаю вдруг, что я больше двух месяцев ждал этой минуты. Она была обещана мне в то далекое июньское утро на площади перед стеклозаводом в Ветринке...
Мы идем, взявшись за руки, наши пальцы сплелись. Прыгаем, цепляясь за кусты, с кочки на кочку. Смотрим на гирлянды трассирующих над болотом. И нам очень весело. Назло Гитлеру и войне. Голова словно во хмелю. Мы молчим, но, заглядывая поминутно в глаза друг другу, улыбаемся, и улыбки наши красноречивей всяких слов. Сначала я иду слева, и Алеся поддерживает меня за правую руку, но потом я меняюсь с ней местами.
Это не очень удобно — Алеся все время наталкивается на раненую руку, но не могу же я, ее кавалер, ее рыцарь, позволить ей загораживать меня своим телом от пулеметчика.
Я чувствую себя очень сильным. Мне не страшны никакие каратели и никакие раны. Я очень благодарен Алесе. Мне хочется сделать что-нибудь очень хорошее для нее. Но мысль о той, другой, московской девушке не дает мне покоя. Хотя я начинаю понимать, что просто-напросто, уходя в армию, выдумал я себе ту любовь. Потому что солдату нужна любовь как якорь, как маяк кораблю. Что у такae было с Тамарой? С восьмого класса держались за руки, целовались, потом поссорились, стали забывать друг друга. И вдруг — война. Узнал — Тамара эвакуировалась. По почте помирились, она обещала ждать...
— Мы будем дружить. Да? — для очистки совести спрашиваю я Алесю.
И больше всего в жизни мне хочется проверить — правда ли губы у Алеси пахнут земляникой?.. Она пожимает мне руку, улыбается... Девушка на Большой земле тоже вроде улыбается, а шагающий впереди пулеметчик, у которого совсем другие мысли в голове, оборачивается вдруг и раздраженно, прозаически шипит:
— Полегче, дружок! В сотый раз на каблуки наступаешь!
Ночь, прекрасная и грозная ночь не собирается, видно, уступать дню. Тем лучше для партизан, тем хуже для карателей. Тучи летят, обгоняя друг друга. Словно чудовищная гусеница, растянувшаяся колонна петляет по проселкам, взбирается на холмы, сползает в стылые овраги, оставляя за собой, вопреки всем предосторожностям, гиппопотамовый след. Далеко позади догорает зарево над Хачинским лесом.
— Тише! Деревня! — вместе с завываниями ветра пролетает над колонной легкий шепоток. Я расстегиваю кобуру, сжимаю рукоять нагана. Маяча крышами, проплывает мимо деревня. Не слышно ни приглушенного травой топота ног, ни дыхания изнемогающих от боли и усталости раненых. Слух напрягается, глаза рыщут вокруг, высматривая, выискивая, буравя каждую подозрительную тень. А тени в эту ночь все подозрительны, и малейший неожиданный звук колет сердце.
Короткий привал у шоссе Пропойск — Могилев, пока разведка прощупывает округу. После двадцатикилометрового похода можно наконец растянуться на траве, задрать ноги, расслабить мышцы. По рукам ходит Алесина фляжка, раненым — три глотка. Пью последним. Мне достается два глотка. Два глотка последней нашей воды из Ухлясти. Теперь из Ухлясти пьют немцы... А у нас вода осталась только в кожухах станковых пулеметов. Во время перехода через шоссе выставляем заслоны: на юг, в сторону Пропойска, и на север, в сторону села Рабовичи. Боков — он за проводника — ведет нас к Бажукову за реку Проню...
Опять болото? Нет, это широкая — почти на полкилометра — седая от росы заболоченная пойма Прони. Еще не видя Прони, мы чувствуем холод, запах реки.
Нежеланный, зернисто-серый, зябкий рассвет застает нас в самом неподходящем месте
— на переправе через этот приток Сожа. Мелкой дробью садит дождь. Чешуится рябью свинцовая вода. Все мы долго пьем, наполняем фляжки. На давно не смоленной плоскодонке, припрятанной на берегу бажуковцами, поочередно перевозят на тот берег раненых, женщин и не умеющих плавать партизан. Остальные перебираются вплавь — кто нагишом, а кто и в полной форме.
Вон раздеваются десантники — Щелкунов, Барашков, Терентьев... До чего ж непохоже это купание на то, июньское, в Ухлясти., когда мы еще были мальчишками!..
Как и всех, меня грызет нетерпение: скорее бы перебраться на тот берег! Наконец-то подходит и наша очередь. Алеся одобряюще улыбается и машет рукой. Токарев заходит в воду со Смирновым на руках, устраивает его удобнее на корме утлого суденышка. На весла садится Баламут.
— А знаешь,— говорит мне шепотом Смирнов,— мы переправляемся там почти, где переправлялся через Проню Карл XII со своим войском... Потом, недалеко отсюда, под
Чаусами, Петр Первый разбил Карла. Я ходил в деревню Лесная — там стоит церковь, построенная Петром в честь этой победы!
Держась здоровой рукой за замшелый борт, я говорю:
— Туговато нам с тобой придется, если фрицы защучат нас в этой посудине. Добро погода нелетная, а то бы они нас быстро накрыли.
— Мне-то один конец,— спокойно отвечает Смирнов. — Не сейчас, так потом. Надоело. Носитесь со мной как с куклой. Зря. Не жить мне. Уж лучше сразу. Знаю — человек до последней минуты обязан за жизнь бороться, но ведь я обузой стал. Я просить буду... Только сначала с Самсоновым надо, как только утихнет. Сейчас нельзя бригаде в спину...
Говорит он слабым голосом, слова выговаривает с трудом. Шутка ли, проделать такой путь с распоротыми легкими!
— А я все-таки убил того фашиста,— говорит Смирнов и пытается повернуть ко мне голову.
— Какого фашиста? — спрашиваю я, наблюдая за сильными взмахами весел. Мягко, ребром весла рассекает Баламут черную воду.
— Того, на первой засаде. Перед тем как ранили меня. Я видел, как он схватился за живот и упал, клянусь тебе... У него лицо человека обреченного, такое лицо, какое было у Саши Покатило на телеге, после разгрома Никоновичей.
— Упал и не двигался? — деловито осведомился я, бесшумно вычерпывая воду ржавой красноармейской каской, от которой пахнет рыбой.
— Ну да!.. — Кашель, слабый, судорожный, сотрясает этот обтянутый кожей скелет, в котором чудом теплится еще искорка жизни. Юрий возбужденно кивает головой: Ну да!.. Я минуты три наблюдал — лежит колодой, не шевелится. А потом меня ранили. Знаешь, я все последние свои дни отдал бы сейчас за то, чтобы умереть сейчас как Зоя... Ничего не успел... Так трудней... И мама ничего не знает...
Если я раньше тебя выберусь из тыла, даю торжественную клятву Смирнову,— я заеду к твоей матери, расскажу ей...
— Бросьте болтать! — говорит Баламут. Осторожно скрипят уключины.
Мягкий толчок нос лодки уткнулся в берег. Днище лодки скребет по песку. Юрий силится сказать что-то, но хватается за грудь и ничего не говорит. Бережет силы. Мне очень хочется передать Юрию часть той новой силы, которую я в себе сейчас чувствую. Был душевный разлад, было мучительное раздумье, была растерянность, но сейчас все это остыло, осело свинцовой решимостью, а вокруг все стало прозрачней и ясней...