Из подруг ей в одно время ближе других девчат была Люся Краснопевцева, которая, в отличие от тоненькой, как тростинка, Жени, уже в девятом классе являла собой вполне сложившуюся, с пышными формами, девушку. Люся была чистый законченный меланхолик и своим характером, видимо, уравновешивала эмоциональное буйство Жени. Однако с тех пор как Люся неожиданно влюбилась в Жору Летунова, сидевшего за партой как раз позади нее, она как-то заметно отделилась от Жени, ревнуя ее к своему избраннику, особенно проявив эту ревность после того, как любивший всласть потрепаться Жора опрометчиво признался Люсе, что питает особое влечение к брюнеткам. Люся же была ярко выраженной блондинкой. Она так и не выпустила слабовольного Жору из своих пухлых, но оказавшихся весьма цепкими рук и впоследствии вышла за него замуж.
Когда Люся ненароком проведала, что у Жени арестована мама, она и вовсе перестала замечать свою подругу, будто ее не существовало вовсе. Впрочем, предательство Люси Женя переживала недолго, оказалось, что система не могла допустить, чтобы дети репрессированных родителей продолжали учиться в своей школе, тем более что она считалась привилегированной. Женю тут же выдворили из школы, не допустив к выпускным экзаменам.
Тимофей Евлампиевич ринулся к самому Сталину, но тот, прежде сам приглашавший его к себе, теперь снизошел лишь до того, чтобы согласиться выслушать его по телефону. Он терпеливо ждал, когда Тимофей Евлампиевич наконец завершит свой сбивчивый рассказ и изложит просьбу, но так и не дождался и потому прервал собеседника.
— Так вы говорите, что мать вашей внучки арестована уже давно, внучка продолжала учиться в своей школе, а теперь, когда пришла пора выпускных экзаменов, ее отчисляют? — переспросил Сталин с таким напряженным любопытством, словно он и впрямь был не только удивлен таким оборотом дела, но и не мог воспринять его как дело справедливое.
Тимофей Евлампиевич вновь повторил свой взволнованный рассказ.
— Не надо отчаиваться, товарищ Грач.— Голос Сталина прямо-таки обволакивал Тимофея Евлампиевича своим участием.— Я понимаю ваше желание оставить ее в той школе, где она училась, тем более в период сдачи выпускных экзаменов.— Он умолк, а Тимофей Евлампиевич воспрял духом.— И все же наиболее правильным решением будет решение о переводе вашей внучки в другую школу,— неожиданно сказал Сталин.— Такая мера необходима, чтобы вокруг вашей внучки не возникла некая полоса отчуждения. Это может ее травмировать.
— И все же я очень прошу вас, Иосиф Виссарионович…
— А вам никогда не приходило в голову, товарищ Грач, что ваша внучка уже не ребенок, она достигла совершеннолетия и в одно прекрасное время вознамерится отомстить за свою мать?
Этот внезапный вопрос Сталина обескуражил Тимофея Евлампиевича, и он не нашелся сразу, что ему ответить.
— Вот видите, не задумывались,— укоризненно произнес Сталин.— А товарищу Сталину приходится задумываться и над такими вопросами.
— Мне можно надеяться на визит к вам? — трепетно спросил Тимофей Евлампиевич.— При личной встрече я вам все объясню…
— Я позвоню вам в Старую Рузу,— прервал его Сталин, не уточняя, однако, когда можно будет ожидать его звонка.
— Сейчас я живу с внучкой в Лялином переулке,— сказал Тимофей Евлампиевич. — Внучка осталась без родителей… Оставлять ее одну было бы не совсем осмотрительно.
В ответ Сталин громко хмыкнул:
— Это в восемнадцать-то лет? Вполне зрелый и самостоятельный возраст. Вряд ли ваша внучка нуждается в такой обременительной для нее опеке. Впрочем, я уже вторгаюсь в ваши личные дела, вам самому виднее. Итак, я вам позвоню в ваш Лялин переулок.
— Мы живем в коммунальной квартире, Иосиф Виссарионович. Может быть…
— Такие уважаемые люди за все годы советской власти не заслужили отдельной квартиры? — Голос Сталина выразил искреннее удивление.— Странный парадокс! Наши партийные и советские чинуши несколько обюрократились, что перестали ценить людей и заботиться об их нуждах. Хотите, я распоряжусь насчет квартиры?
— Лучше помогите моей внучке! — взмолился Тимофей Евлампиевич.
— Это уже похоже на торг, товарищ Грач,— Тимофей Евлампиевич почувствовал, что Сталин всерьез рассердился за то, что ему не дали сыграть роль благодетеля.— Торг здесь неуместен. Я вам позвоню,— и он повесил трубку.
Всю неделю Тимофей Евлампиевич не выходил из квартиры, ожидая звонка. Порой ему казалось, что он сходит с ума. Но он брал себя в руки, чтобы не волновать Женю, усердно готовившуюся к экзаменам. Теперь, когда он потерял сына и сноху, вся его жизнь замкнулась на судьбе внучки.
И вдруг в субботу, уже поздно вечером, зазвонил телефон. Тимофей Евлампиевич опрометью бросился к нему.
— Товарищ Грач, вы слушаете? — осведомились на другом конце провода.
— Да, да, я слушаю! — дребезжаще ответил Тимофей Евлампиевич.
— С вами будет говорить товарищ Сталин.
— Я слушаю! — не зная, радоваться ли ему или корчиться в муках, воскликнул Тимофей Евлампиевич.
— Товарищ Грач? — послышался в трубке знакомый голос — глухой, с хрипотцой.— Говорит Сталин. Ничего, что побеспокоил так поздно? Должен вам сказать, что органы народного образования настаивали на том, чтобы перевести вашу внучку в другую школу. Но мне удалось, хотя и с трудом, их переубедить. Пусть сдает экзамены в своей школе. Желаю вам всего доброго.
И трубка умолкла. Тимофей Евлампиевич поспешил обрадовать Женю. Но она крепко спала. Ночь была теплая, влажная, и Женя во сне сбросила с себя одеяло, распластавшись на простыне как на пляже.
«Господи, как она обрадуется утром!» — не веря своему счастью, подумал Тимофей Евлампиевич и впервые за всю неделю спокойно уснул.
А на рассвете за Женей пришли двое, представившиеся сотрудниками НКВД. Женя, вскочив с постели в одних трусиках, бросилась к дедушке и вцепилась в него:
— Дедуля! Родной мой! Не отдавай меня! Не отдавай!
Тимофей Евлампиевич попытался отвести беду.
— Товарищи, это явное недоразумение, это какая-то непостижимая моему уму ошибка! Вчера вечером мне звонил лично товарищ Сталин и заверил, что внучка может продолжать учебу в своей школе. В понедельник у нее первый экзамен!
Хмурый, по-видимому, невыспавшийся чекист усмехнулся в ответ и пристально оглядел Тимофея Евлампиевича как человека, внезапно тронувшегося умом.
— Вам звонил лично товарищ Сталин? — злорадно переспросил он,— Не рассказывайте нам басни дедушки Крылова! А первый экзамен ваша внучка будет сдавать у нас на Лубянке.
Они схватили Женю, вцепившуюся в дедушку, и с силой толкнули в стоявшее поблизости кресло. Потом велели собрать вещи и повели Женю на улицу. Тимофей Евлампиевич ринулся было вслед за ней, но чекист резко оттолкнул его:
— Не сметь! Все справки — в приемной НКВД.
Через несколько дней в приемной ему наконец сказали, что Грач Евгения Андреевна осуждена к высылке в Сибирь сроком на пять лет и что переписка ей разрешена.
То, что внучке была разрешена переписка, стало для Тимофея Евлампиевича единственной радостью, которую у него еще не успели отнять…
Поезд, в последний раз лязгнув буферами, остановился у платформы вокзала. Женя не торопилась выходить, хотя все ее мысли были уже в Лялином переулке, в маленькой, похожей на пенал комнатке, которую она так самозабвенно любила прежде, когда все они — мама, папа, дедушка и Женя — были вместе и верили в то, что ничто их никогда не разлучит. Этой неспешностью она оттягивала, насколько могла, тот момент, в который узнает, может быть, самое страшное, что ее ожидает и что уже невозможно будет ни исправить, ни изменить. И потому вышла из вагона последней, хотя ей все время старались уступить дорогу. Вещей у нее практически не было, если не считать маленького фанерного чемоданчика, обтянутого зеленым дерматином. В чемоданчике лежали ее нехитрые пожитки: смена белья, запасное зеркальце, пачка дешевого печенья да неизвестно как попавшая к Жене книга «Робинзон Крузо», которую она читала еще в детстве, а потом еще вместе со Славиком. О зеркальце она уже с давних пор почти позабыла, не любила в него смотреться и считала совершенно лишним предметом в своем обиходе.
Толпа пассажиров, вывалившаяся из поезда, уже схлынула и растворилась в привокзальной сутолоке, и Женя быстро выбралась из тесных объятий вокзала на просторную площадь, успев прочитать рекламу, призывно кричавшую со щита на одном из высоких домов: «Покупайте камчатские крабы! Дешево, вкусно и питательно!»
Женя ускорила шаг, быстро пересекла Садовое кольцо, опасаясь угодить под машины, от которых в таежном поселке почти вовсе отвыкла, и успела вскочить на троллейбус, шедший в сторону Покровских ворот, откуда было рукой подать до Лялина переулка.
Она сразу же узнала его, свой родной переулок, в котором прожила столько счастливых беззаботных лет! Он был все таким же тихим, приветливым и безмятежным, будто никакие бури не коснулись его. И будто находился не вблизи сумасшедшего Садового кольца, а где-то далеко, на самой окраине Москвы. Когда-то это был прекрасный островок ее детства, пока не обрушились на него, подобно сокрушительному цунами, несчастья, страдания и муки. По весне, когда еще люди не съезжали на подмосковные дачи, здесь, как, наверное, и на других улицах и в других переулках, не знали отдыха громкоголосые сипловатые патефоны. Из распахнутых настежь окон гремели фокстроты и танго, в переулке будто навечно поселились Леонид Утесов и Вадим Кожин, Лидия Русланова и Клавдия Шульженко, Сергей Лемешев и Изабелла Юрьева… Из палисадников струился дурманящий и вызывающий любовное томление аромат нагретой солнцем сирени, казалось, что мир прекрасен, ни у кого нет никаких забот, кроме одной: слушать и слушать эту чудесную, никогда не приедающуюся музыку. Тем более что, сменяя фокстроты и танго, патефоны, словно подчиняясь единой команде, бодро возвещали: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» И разве кто-либо посмел бы в этом усомниться! Хотя, впрочем, мама, когда у нее было мерзкое настроение, то и дело повторяла: «Я задыхаюсь!» — и Женя с изумлением смотрела на нее, не понимая, почему она задыхается. Как это можно было умудряться задыхаться, если окно распахнуто настежь, в него врывается прохлада, воздух свеж и полон запахов весны, а сердце у мамы на редкость здоровое, да и к тому же звучит и звучит, не переставая, патефон, утверждая неопровержимое: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!»
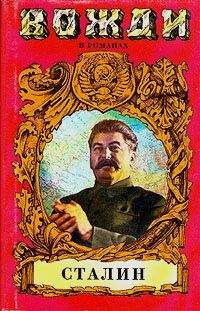

![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)


