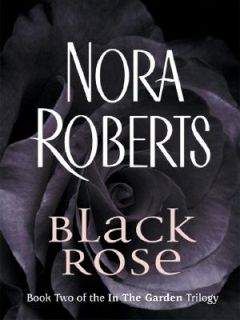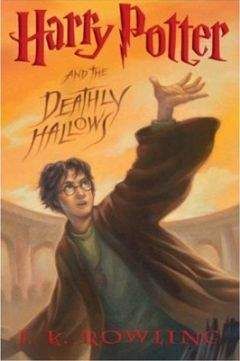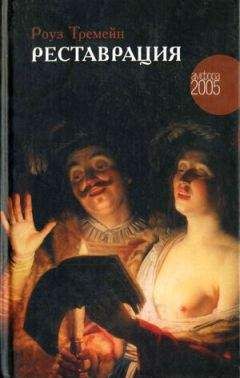наконец спрашивает она.
– Ну… – говорит он, отводя взгляд, словно ему стыдно или он вот-вот расплачется. – Вы можете подумать, что это странно, но я почему-то считал своим долгом присматривать за вами и надеяться, что вас, как воспитанницу Корама, ждет хорошая жизнь.
Ах. «Хорошая» жизнь. Как жизнь может быть хорошей, если ты никому не дорога и вынужденно тяготишься стыдом? Как может сердце не полниться желанием отомстить?
– Присматривать за мной? – переспрашивает Лили.
– Я пытался. Я стоял в дверях и смотрел, как вы учили малышей шитью. Я видел, как вы были терпеливы и спокойны. Но опять-таки мне не разрешили с вами поговорить. Мне не доверяли.
– И почему же вам не доверяли?
– Лишь потому… Они не знали, кто я.
– И я не знаю, кто вы. Вам следует представиться, иначе я уйду.
Мужчина сжимает в руках жесткий цилиндр. Он опускает на шляпу взгляд, затем надевает ее, немного сдавливая по бокам, словно без нее не чувствует в себе достаточно смелости или решительности для того момента, который сейчас проживает.
– Что ж, – говорит он, – у вас есть право мне не верить, но, кажется, я – тот, кто спас вам жизнь.
Она обдумывает сказанное им. Ей хочется сказать: «Моя жизнь снова нуждается в спасении. Я отдаляюсь от людей, потому что совершила злодеяние», но она молчит и ждет.
– Вы, вероятно, знаете, точнее, я уверен, что вы знаете о том, что ваша бедная матушка бросила вас зимней ночью?
– Да. Она оставила меня возле ворот парка Виктории.
– И тогда шел дождь и было очень холодно, но молодой констебль дежурил возле парка, когда услышал вой волков…
– Ох, – произносит она. – Ох.
Так она узнает, что это был он. Она помнит его имя: Сэм Тренч. Он шел сквозь мокрый снег и нес ее, завернутую в мешковину. Его выходили в Госпитале для найденышей – ему стало плохо после такого долгого пути, а затем он отправился восвояси, и она вскоре очутилась на ферме «Грачевник».
Она растрогана тем, что он не только спас ее от мороза и от волков, но и счел своим долгом присматривать за ней, словно она была его ребенком.
– Констебль Сэм Тренч, – говорит она. – Давным-давно мне назвала это имя моя приемная мать, и я его не забыла.
Он улыбается и берет ее за руку.
– Вы преуспели в жизни, работаете на Белль Чаровилл.
– «Преуспела»? Пожалуй, что так. Белль довольна моей работой. А вы? Как сложилась ваша жизнь в этом мире, Сэм Тренч?
– Весьма неплохо, скажу вам так. Переловил немало преступников на службе в Лондонской полиции. Теперь я суперинтендант. В сыскном отделе.
В сыскном отделе.
Внезапно Лили пробирает холод. Она замечает, что во дворе снег все еще заваливает могилы. Она плотнее закутывается в шаль.
Первым уроком, который усваивали дети в Лондонском госпитале для найденышей, была их покинутость. Им напоминали – порой ежедневно, – что никому в этом мире нет до них дела и некому их любить, кроме милостивого Господа.
«Господь видит вас, – говорили им. – Господь видит, как вам одиноко. Но Он не может научить вас прясть и ткать. Он не может бесконечно вам напоминать, что без усилий ваша жизнь не сложится, но вы со временем поймете, что если не будете слушаться наставников, то снова будете отвергнуты. Тогда, возможно, вы решите, что свободны, но что за свободу вы обретете? Свободу голодать. Свободу рыскать в мусоре, прибитом к берегу речным приливом…»
Их день начинался в пять часов утра. Лили привыкла к ранним подъемам еще на ферме «Грачевник», когда с первыми лучами солнца начинали кукарекать молодые петушки. Но здесь, у Корама, детей будили в темноте. В каждый дортуар заносили по горящей лучине, и в ее зыбком свете они пытались одеваться, пока сестры проверяли кровати на предмет «ночных конфузов». Таковых было немало. Запах мочи постоянно висел в воздухе. Принюхиваясь и сетуя, сестры снимали мокрые простыни и отвешивали подзатыльники «тем маленьким дикарям, которые не могут потерпеть». Кровать, которую Лили делила с Бриджет, часто бывала мокрой по утрам, и обе получали подзатыльники, но через некоторое время Лили привыкла к большой теплой луже, в которой они спали и видели сны, и начала воспринимать ее как связь между ней и Бриджет, которую они не ожидали обрести, но находили в этой связи некое подобие утешения.
Первым делом с утра им поручали набрать воды на водокачке во дворе и натереть полы в дортуаре, а также паркет в больших залах, где собирались покровители и посетители госпиталя и где музыканты, безвозмездно уделявшие свое время и таланты благотворительному обществу Корама, часто исполняли духовную музыку. Иногда, уже разойдясь вечером по кроватям и посасывая стертые до ссадин руки после долгого трудового дня, дети засыпали под нежные, меланхоличные звуки, источника которых не знали, но которые успокаивали их и иногда проникали в их сны.
После уборки найденыши садились завтракать. Молоко им в кашу добавляли свежее, ибо каждое утро два молочника привозили сюда по холодному бидону. После болезни Лили опасалась пить воду, и сестры, которым не хотелось снова тратить силы на уборку ее рвоты, некоторое время разрешали ей пить за трапезой молоко – «пока твое тело привыкает к лондонской воде».
Она прилежно училась. Может, это молоко придавало ей сил? За уроком Библии обычно следовал урок шитья, за ним – час чтения и письма. Идея Томаса Корама состояла в том, чтобы сироты «всеми доступными способами» приучались к самостоятельной жизни. Его удручала мысль, что они проживут несколько лет в госпитале «за счет государства», а затем выйдут из него до того беспомощными, что скатятся до шельмовства и проституции. Он видел себя спасителем, но ему хватало мудрости, чтобы понимать: не каждый в этом мире желает быть спасенным, а некоторые слышат в голове своей лишь дикий зов порока и разврата.
Знал Корам и то, что многие из детей, которых он приютил в шесть лет, успели привязаться к приемным родителям и что от расставаний с теми чахли с горя, оправиться от коего им удавалось не всегда. Он мог лишь внушать тем, кто заботился о детях в госпитале, относиться к этому «недугу» со всей суровостью. Детей увещевали «навсегда забыть» о тех годах, что они провели с людьми, которым за опеку над ними платили десять шиллингов в месяц, «но для которых они ничего не значили». Им надлежало напоминать, что в других краях, во времена не столь