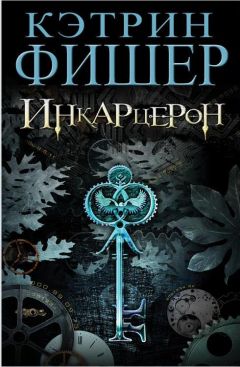— Да, согласна, — не задумываясь ответила дама.
— Отдавая себе отчет, что успеха верного гарантировать не могу, и оценивая шансы, скажем, «пятьдесят на пятьдесят»?
— Даже так.
Опельбаум задумался, покачавшись в кресле. И потом кивнул:
— Хорошо, я примусь за эту работу. Мы подпишем договор, и вы выплатите аванс… Но позвольте все же уточнить, — он понизил голос, — отчего вы так категорично настроены? Он ваш тайный родич? В чем здесь подоплека?
Новосильцева улыбнулась:
— Милый Генрих Иванович, можете мне не верить, как не верит мой младший брат, но никакой подоплеки тут нет. Кроме нашего с сестрой чистого желания протянуть руку помощи прелестному мальчику.
— Неужели?
— Истинная правда.
— Просто удивительно: в наше время и подобное бескорыстие…
— Мы с сестрой одинокие сентиментальные дамы, и нам хочется печься о ком-то. Заводить собаку или кошку — это слишком банально. Мы поможем юноше, у которого прекрасные перспективы.
— Дай-то бог, дай-то бог, — отозвался, щелкнув языком, Опельбаум.
— Стоит вам увидеть Сорокина, как поймете сразу: этот юноша далеко пойдет. У него глаза ангела.
Правовед согласился:
— Значит, по рукам. Сразу по получении аванса приступаю к делу.
Начались мучительные, нудные заботы: составление прошений, собирание справок и документов, заверение копий, запись к чиновникам, долгие часы ожидания у дверей кабинетов присутствий, исправление текстов, если в них обнаруживались огрехи или просто несоответствия установленным образцам…
А Сашатка не знал обо всех этих сложностях. Просто учился, бегал на занятия, в том числе и практические — в настоящей типографии, где ученики осваивали набор и верстку. Оба они с Васей делали успехи. И мечтали о скором выпуске, о работе, заработках и вообще о самостоятельной жизни. Собирались комнату снимать на двоих. На сестер Новосильцевых больше не надеялись.
5
Генрих Опельбаум посетил Покровскую вскоре после Пасхи. Он подъехал к дому Сороки на высоких дрожках, в котелке, сюртуке, галошах и с зонтиком, так как капал дождик. Постучал во входные двери: «Есть тут кто живой?» Вскоре появилась девушка в светло-синем платье. Вперилась в пришельца карими глазами.
— Сударь, вы к кому?
— К Александре Савельевне, с вашего позволения. Дома ли она?
— Дома, где ж ей быть, коль она второй месяц не встает с постели.
— Что, болеет?
— Да. Вроде кашель и жар уже прошли, но такая слабая, что сказать нельзя. С ложечки кормлю.
— Но в сознании. В памяти?
— Слава богу.
— Можно ея увидеть?
— Я сейчас спрошу. Как про вас сказать?
— Помните Екатерину Владимировну, приезжавшую год назад с братом вашим?
— Как не помнить! Очень, очень добрая барыня. И она, и Софья Владимировна.
— Я у них присяжный поверенный. Хлопочу по делу Александра Григорьевича.
Девушка испуганно посмотрела:
— Что с Сашаткой? Плохо, нет?
— Ничего плохого. Можно мне войти?
— Проходите, конечно.
Маменька лежала в подушках — бледная, худая, темные круги возле глаз. Немец поклонился:
— Александра Савельевна, извините за беспокойство. Но обрез времени не дает мне медлить. Я поверенный в делах мадемуазель Новосильцевой и одновременно — сына вашего. Разрешите сесть? Я сейчас объясню.
Кратко изложил суть вопроса. И закончил так:
— Коль усыновление состоится, он получит привилегии, дарованные дворянству, сможет поступить в дворянский Лицей и затем занять достойное место в жизни. Вам по вкусу сия пропозиция?
Тихим голосом женщина ответила:
— Я была бы рада за сыночка моего…
— И подпишете требуемый в этом случае документ?
— Документ? Что за документ?
— О согласии вашем на его усыновление. И о перемене фамилии.
— Перемене фамилии?
— Безусловно.
— И какая же будет его фамилия?
— Новосильцев.
Мама помолчала. Наконец, вздохнула:
— Нет, не подпишу.
— Отчего же? — удивился Генрих Иванович.
— Как же так — перемена фамилии? Он Сорокин — в память об отце. А тогда его дети станут Новосильцевыми. И Сороку, Гришеньку моего, забудут… Нет, не подпишу.
Опельбаум заволновался:
— Погодите, погодите, Александра Савельевна. Не пристало в таких вопросах рубить с плеча. Разве дело в фамилии? Кровь Сороки в нем останется, никуда не денется, перейдет к его детям, внукам, правнукам. Но одно дело — жизнь простолюдина, обывателя, и другое — образованного человека, дворянина. Помогите сыну. Не чините ему препятствий. От одной вашей закорючки счастье зависит всей его жизни. — И добавил, более спокойно: — А фамилия никуда не денется — ведь у вас еще старший сын — Константин Сорокин. Вот его дети и внуки будут Сорокины.
Мама продолжала молчать. Неожиданно к разговору присоединилась Катюха:
— Извиняюсь, конечно, что встреваю… Но молчать не могу. Маменька, голубушка, подпиши, не упрямься. Ну, Сорокины — что ж с того? Ведь Сорока — тоже не фамилия, а прозвище папенькино с детства, он Васильевым был записан, как и ты — Васильевой. Пусть уж братец станет дворянином, коли нам не выпала сия честь. Мы могли бы зваться Милюковы, коль на то пошло. Но теперь не про это речь. Подпиши, пожалуйста.
Женщина подняла веки, посмотрела трагически. Еле слышно произнесла:
— Ладно, раз ты просишь… Может, в самом деле так ему счастливее будет в жизни. Дай-то бог родимому!
Общими усилиями усадили ее в подушках, Опельбаум подал перо с дорожной чернильницей и составленный заранее документ. Словно курица лапой, мама начертала: «Александра Васильева» — и в изнеможении, будто после трудной работы, повалилась навзничь опять. Вытерла ладонями набежавшие слезы:
— Может, в самом деле… так оно счастливее… лучше…
Опасаясь, что она передумает, Генрих Иванович торопливо откланялся, отказавшись даже выпить чаю. Но уехать быстро ему не дали: улочку, где стоял дом Сороки, перегородила коляска, из которой вылез управляющий Милюкова. Коротко поклонившись, он сказал:
— Не сердитесь, милейший, но наказ имею от хозяина моего, Николая Петровича, привезти вас к нему для сурьезного разговора. Соблаговолите проехать.
— Вот еще! — заявил присяжный поверенный с вызовом. — Даже не подумаю. Это что еще за новости? Мне никто диктовать не может, с кем иметь беседу, а с кем нет.
— Безусловно, так, — согласился противник, — токмо ведь и нам никто ничего диктовать не смеет: русская глубинка, как говорится, до царя далеко и до губернатора тож. Тут у нас всякое случается. Чик! — и нет человечка. А потом где-нибудь в озере обнаруживают хладное тело.
— Ты мне угрожаешь, олух? — разозлился немец.
— Да помилуйте, разве ж я могу? Угрожать московскому господину? Да ни боже мой. Я прошу по-хорошему: отправляйтесь-ка в усадьбу Николая Петровича, а не то придется применять силу.
— Силу? Ко мне? По этапу хочешь пойти?
— Не стращайте, не надо, сударь. Никакого этапу быть не может, ибо ничего не докажете. То-то и оно. Не серчайте попусту, милостивый государь. Что ж вы разговору боитесь? Милюков, чай, не вурдалак, вашу кровь не выпьет. Дело-то минутное. Он вас спросит кой о чем, вы ему ответите — и поедете себе на здоровье. Здесь вы никому боле не нужны.
Помолчав, Опельбаум кивнул:
— Так и быть, поехали. Мне бояться нечего.
— Ну вот видите: сами и надумали. С самого начала бы так.
Оба экипажа покатили вровень: управляющий следил, чтобы дрожки Генриха Ивановича ненароком не ускользнули. Въехали в ворота усадьбы. Оглядевшись, присяжный поверенный спрятал зонт, спрыгнул наземь и, поправив галстук, в дом направился. Снял калоши у вешалки. Голову подняв, обнаружил Николая Петровича, вышедшего к лестнице. Тот одет был в домашнее: шитой курточке и сорочке апаш, в хромовых сапожках. Улыбнулся приветливо:
— Бесконечно рад, что изволили заглянуть ко мне.
Немец фыркнул:
— Коли угрожают утопить в озере, как же не изволить?
— Угрожали? Вот негодники, право слово. Я им всем задам. Как они посмели? Деревенщина, неучи — вы уж их простите. Я вас пригласил с самыми невинными чувствами, право слово. Просто любопытно. Для чего на моей земле появилось некое ответственное лицо из Москвы? Знать необходимо.
Опельбаум ответил:
— Вашу милость дело мое никак не касаемо. Интерес мой исключительно до семьи Васильевых — или же Сорокиных, как прикажете. Все, что было нужно, выяснил, и теперь собираюсь уезжать.
Николай Петрович оскалился:
— Значит, эта дура подписала свое согласие на усыновление?
Генрих Иванович подумал: «Ишь ты — шустер. Тайну разгадал. Впрочем, тут, в провинции, что за тайны? Все все знают».
Милюков продолжил:
— Только допустить сие никак невозможно.
— То есть что? — спросил посетитель. — Что невозможно?