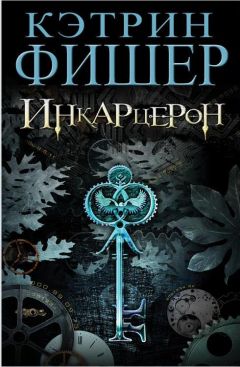Николай Петрович оскалился:
— Значит, эта дура подписала свое согласие на усыновление?
Генрих Иванович подумал: «Ишь ты — шустер. Тайну разгадал. Впрочем, тут, в провинции, что за тайны? Все все знают».
Милюков продолжил:
— Только допустить сие никак невозможно.
— То есть что? — спросил посетитель. — Что невозможно?
— Я имею в виду усыновление. Ведь закон запрещает дворянам усыновлять крестьян.
— Но случаются исключения.
— Я и говорю: допустить невозможно. Никаких исключений. Посему прошу передать мне свою бумагу.
От подобной наглости наш присяжный поверенный даже растерялся.
— То есть как это — передать?
— Очень даже просто: из рук в руки.
— Да с какой же стати?
— Да с такой, что я вас прошу. И расстанемся ко взаимному удовольствию.
— Но ведь это произвол, Николай Петрович!
— Никакого произвола, помилуйте. Вы мне тихо-мирно отдаете согласие матери на усыновление и без всяких задержек оставляете здешние места. С пожеланием доброго пути.
Немец посуровел:
— Вы не отдаете себе отчета, что делаете.
— Отдаю совершенно. Каждый выступает за свой интерес. Я и выступаю как могу.
— Да и я выступаю как могу, сударь. И бумаги никакой не отдам.
— Не желаете, значит? Очень, очень жаль, — опечалился барин. — Мы могли бы поладить. А хотите, заплачу вам тысячу рублей?
— Торг бессмыслен. Разрешите откланяться.
— Нет, не разрешаю. — Милюков звонко крикнул: — Прошка, Тишка — ко мне!
Из соседних дверей появились два дюжих мужика — первый с топором, а второй с орясиной. Их намерения были недвусмысленны.
— Понимаете, Генрих Иванович? — улыбнулся негостеприимный хозяин. — Выбора у вас нет. Отдавайте бумагу.
Опельбаум попятился. Произнес сквозь зубы:
— Выбор есть всегда. — И достал из внутреннего кармана сюртука вороненый пятизарядный кольт. — Прочь с дороги, или я стреляю.
Мужики замерли.
— Сдрейфили, ребята? — продолжал улыбаться Милюков. — Так не трусьте. У него недостанет сил выстрелить.
Приободренные «ребята» двинулись на присяжного поверенного.
— Недостанет сил? — рявкнул Генрих Иванович и нажал на спусковой крючок, для начала направив дуло над головой Милюкова. Пуля угодила в хрустальную люстру, и осколки стекла посыпались вниз.
Замешательство в стане врага было оглушительным. Немец этим воспользовался, выскочил во двор и хотел было прыгнуть в бричку, но дорогу ему заступил управляющий. Что ж, пришлось и на него направить оружие.
— Прочь пошел! — приказал москвич. — Или за себя не ручаюсь.
— Тихо, тихо, милейший, — не испугался тот и попробовал отнять револьвер. — Вы в гостях, а ведете себя неправильно…
Опельбаум снова выстрелил, ранив неприятеля в плечо. Вскрикнув, управляющий перегнулся пополам от боли. А доверенное лицо Новосильцевой, оказавшись в экипаже, сам огрел коня по крупу вожжами: «Но! Но! Вперед!»
Тут на галерее появился Милюков с охотничьим ружьем. Проворчав: «Далеко не уйдешь, скотина!», он пальнул оппоненту в спину. Но рука, видно, дрогнула, и свинец полоснул по уху Генриха Ивановича. Ничего не почувствовав, присяжный поверенный лишь сильнее стал хлестать лошадь. Бричка вынеслась за ворота. Николай Петрович бахнул вслед, но уже не целясь, лишь из вредности. Крякнул: «Упустили беса. Черт его подери».
Вылетев на большак и поняв, что погони нет, Опельбаум отпустил вожжи, передал их вознице, сидевшему на козлах ни живым ни мертвым, и расслабленно рухнул на сиденье. Вытащил платок и прижал к раненному уху. Недовольно поморщился:
— Ух, кровищи сколько!.. И галоши мои пропали… — тяжело вздохнув, обратился к кучеру: — Ну, гони, гони, дядя. Нам до вечера надо быть в Твери.
6
Жизнь в доме Энгельгардта совершенно преобразилась: всюду в вазах теперь стояли цветы, Софья Владимировна часто играла на фортепьяно (иногда с Вольдемаром в четыре руки), а Екатерина Владимировна командовала кухаркой. Регулярно обедали вместе, а по воскресеньям принимали гостей — заходили на огонек Фет и Дружинин, а Сашатка с Васей даже ночевали по праздникам.
И в один из таких майских вечеров 1870 года только сели в гостиной за лото, как дворецкий доложил:
— Некий господин прибыл к мадемуазель Новосильцевой. Говорит, что по неотложному делу — относительно Сороки.
Общество замерло в изумлении.
— Я сказал им, что теперь у господ лото, и просил обождать, но они настаивают, ибо очень торопятся.
— Хорошо, зови, — разрешил хозяин.
Через несколько минут на пороге гостиной появился седоватый мужчина, просто, но со вкусом одетый, хоть и с некоторой долей провинциализма. Поздоровался, шаркнув ножкой.
— С кем имеем честь? — обратился к нему Энгельгардт.
— С вашего позволения, Ноговицын Афанасий Петрович из Твери.
Сестры Новосильцевы онемели. Первой пришла в чувство Софья:
— Миль пардон, но ведь нам сказали… что вы якобы… некоторым образом…
— Отдал богу душу? — Тонко улыбнулся пришелец. — Поначалу все так и считали, но потом все разъяснилось. Дело в том, что был я в ту пору по делам в Вышнем Волочке. А слуга мой, Филька, ростом с меня и комплекции схожей, выпил лишку, да и стал перед зеркалом примерять мои платья. Душегубы-то и перепутали его со мною…
— Душегубы, значит?
— Получается, так. Ведь не сам же Филька в петлю влез в моем фраке-то?
— Да, конечно… А поймали кого-нибудь?
— И-и, да где там, ей-богу! Разве же у нас кого ловят, кроме политических?
Вольдемар спросил:
— Не желаете ли кофе, чаю? Видимо, с дороги?
Ноговицын с благодарностью поклонился:
— Оченно признателен и в другое время непременно откушал бы, но теперь спешу. Я ведь на минутку. Дабы передать Екатерине Владимировне копию того завещания старого Милюкова…
Новосильцева встала:
— Господи, неужто?
— Точно так-с. Зная все подробности дела, я не мог не поспособствовать вашим благим намерениям и…
— Так ответьте, дражайший Афанасий Петрович, отчего разгорелся сыр-бор? Отчего Милюковы не хотят огласки этого завещания?
Душеприказчик покашлял, размышляя, как сказать, но потом кивнул:
— Словом, потому… вы увидите сами из грамоты… старый Милюков — стало быть, Петр Иванович, царство ему небесное! — заявлял в документе официально, что Васильев Григорий, по прозвищу Сорока, — сын его внебрачный.
Все оцепенели.
— То есть как — его? — вырвалось у Екатерины. — Получается, что не Николая Петровича?
— Совершенно нет, а родителя его, Петра Ивановича. В сорок девять лет папенька сошелся со своей дворовой крестьянкой, и она родила ему мальчика…
— Получается, что Сорока — брат Николая Петровича?
— Младший брат, — подтвердил Ноговицын. — Более того, в завещании вы увидите, что Григорий получает не только вольную, но и обретает дворянское звание. Правда, без возможности наследования недвижимости. Вместо этого денег ему завещано без малого пятьдесят тысяч серебром.
Все молчали. Первым заговорил Энгельгардт:
— Вот и объяснение козней Милюкова. Не хотел брата признавать. Не желал делиться.
— А Григорий знал, добивался своего, но повсюду натыкался на стену. Через это пил. Через это повесился.
Из угла столовой раздались всхлипы. Все увидели заплаканного Сашатку. Вася утешал его:
— Будет, будет, приятель… Радоваться надо: если есть в тебе дворянская кровь, значит, усыновят без задержек.
— Да, да! — поспешила к нему Екатерина Владимировна. — Сашенька, голубчик, все теперь устроится, вот увидишь.
Молодой человек шмыгал носом и смущенно улыбался сквозь слезы.
А когда все пришли в себя, обнаружилось, что в гостиной больше никого нет: Ноговицына и след простыл. Будто его и не было вовсе. Вольдемар даже пошутил:
— Может, приходил к нам не он, а его фантом с того света?
Софья замахала на супруга руками:
— Не пугай, право. Я и так едва не лишилась чувств.
7
Собственно, вот и вся история, так счастливо закончившаяся для Сашатки Сорокина. Не прошло и года, как присяжный поверенный Опельбаум передал Екатерине Владимировне все бумаги на усыновление, в том числе и постановление Тверского и Московского губернских правлений с утверждением их Сенатом. С этого момента юноша писался Новосильцевым, дворянином. После окончания Набилковского училища без труда поступил в лицей памяти цесаревича Николая и окончил с медалью; за особые заслуги был оставлен преподавать в младших классах математику, греческий и латынь. Дослужился до статского советника.
Вася Антонов несколько лет проработал в типографии Московского университета, где попал в марксистский кружок, и отправился, после приговора суда, в ссылку под Иркутск как пропагандист-народоволец. Организовал в Иркутске подпольную типографию, снова получил срок, после революции разочаровался в марксизме и постригся в монахи. Умер перед самой войной.