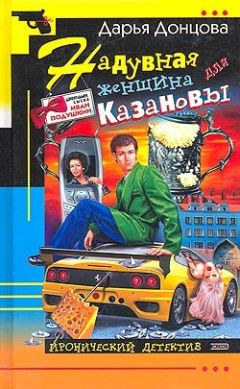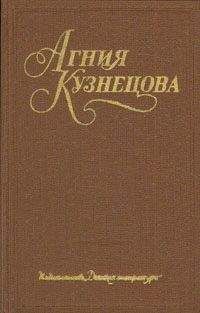— Бросьте! — вскочил босиком и в гимнастерке без пояса Лосев.
— А ты не встревай. Не мешай! — потянул его за полу рубахи Орешный. Дернул сильней. Лосев присел. — Давай, чего там, — поддержал рассказчика Степан Митрофанович. — Дело живое. Мужское. Давай рисуй, продолжай!
— Дура! — не унимался рыбак. — Та мы ж не одни. Вона, дети же здесь!
— Дети… Ха! Эти дети… Завтра, может, кровь прольют. Жизнь отдадут. Пусть хоть послушают, — теперь привскочил на соломе Орешный, — если, правда, и сами, без нас не знают уже. Только навряд. Нынче дети — ого-го! Моя… Шестнадцати не было. А однажды под утро пришла. А через три месяца… — не кончив, он досадливо махнул рукой.
Матушкин, как и помор, было тоже сперва возмутился, хотел уже цыкнуть: кончайте, мол, ерничать. Да сдержался вовремя, не стал прерывать все пуще и пуще разгоравшийся спор. Почему бы на самом деле и не дать солдатам хотя бы вот так… Поделиться, вспомнить о забытом, былом. Может быть, перед боем, перед возможной смертью это и нужно? Даже обычно сдержанный, солидный Степан Митрофанович и тот ишь как разошелся. Дело и впрямь мужское, живое. Никуда от него не уйти. Чего же ханжить? Пускай хоть посудачат. Молодые вот, правда. Лосев, наверное, прав. А впрочем… Что молодые? И молодые! Чего под стеклом их держать? Вон Пацан… А Изюмов? Да и Семен Барабанер. Попритихли, замерли все.
А усач продолжал…
Чеверда засопел; крякнул, сплюнул Орешный; пришибленно умолк помор. Ваня, присев, ошалело смотрел на огонь.
«Фу, дурак. О жене. Как можно так о жене?» — Ваня весь сжался, а лицо гадливо, растерянно сморщилось. Было что-то унизительное, оскорбительное в том, что и как говорил о женщине, о своей жене инженер. И что-то все-таки захватило, затомило и Ванино тело и душу ядовито-сладкой тоской. Ваня знал, читал, конечно, об этом. И Мопассана, и Бунина. Уже в десятом, готовясь в университет, прочел и Боккаччо, и Апулея. Но так, как усатик сейчас! Глазами, голосом, всем своим изнывшим нутром. Всем восторгом своим. Обнаженно, весело, зло. Так еще Ваня не слыхивал. И сквозь отвращение от всего этого откровения инженера тоненьким жальцем проклевывалось в нем еще нечто вроде щемящей обиды: за учебой, за книгами, за заботами и запретами матери и отца все это, такое странное, страшное, но и зазывное, кажется, мимо прошло. Мимо! Такое важное и решающее в судьбе каждого отдельного человека, мужчины, самое мужественное и глубинное. Неизбывное. И теперь уже все может быть — не испытать уже, не успеть. Никогда.
Только Барабанер не принял ничего из этого начисто, целиком, не испытал никаких иных чувств, кроме отвращения, даже ненависти. В сердце, в душе его все было выжжено и залито горем. Отвернувшись, Семка, так же как и Изюмов, уставился взглядом в костер. Раз-другой оторвался, враждебно покосился на Пацана. И так развязный, циничный, надрывный… А тут уже совсем обнаглел — встревает в мужской разговор прямо как равный, как свой.
— Скажи, инженер, — как раз спросил опять Яшка, — а верно, есть такие женщины, что любят, чтобы за ними как можно больше мужчин увивалось?
— Верно. Они, суки, такие все! — опередил инженера, не дал ему ответить рябой. — Бабы… Они прорвы все! И вообще… Ты за ними — они от тебя. А попробуй от них. Вот тут-то они зараз за тобой!
«Вроде и у меня с Тосей так», — показалось вдруг Яшке.
Но Лосев не дал ему проследить до конца первую незабытую любовь свою.
— А ты? Что, ты лучше баб? — навалился на Степана рыбак. — Видать, они тебя… Ишь, как ты на них. А я так на это смотрю: все мы одним миром мазаны, что бабы, что мы, мужики. Вона, гляди, — повел он вокруг востреньким носиком. — Глаза-то, глаза… У всех-то. Смотри, пуще, чем лампа, горят.
Лосев был прав: в глазах у всех так и тлел, так и светился какой-то глубинный беспокойный огонь.
«Ай да рыбак! Напрямки. Молодец! Так, брат, и надо! — почему-то понравилось это таежнику. — Чего нас, мужиков… себя то есть, сахаром мазать?»- Он давно пришел уже к этому выводу, и никто не мог его убедить, что ложь, какой бы спасительной она ни казалась, может быть полезной и нравственной. Рано ли, поздно, считал он, она непременно вылезет боком. А правда… Она сама себе — царь, лучший лекарь, сила и власть. И тут как раз, словно в подтверждение собственных мыслей, Евтихий Маркович вдруг услышал:
— Ладно, пускай! Что мы, мужики, что бабы… Ладно, не спорю, одним миром все мазаны! — опустил рябой неожиданно на колено сжатый кулак. — А мне что от этого? Легче? Вона, — показал он себе на лицо, — я всю жизнь, с детства такой. Баб, замечу тебе… Симпатичных баб от моей рваной рожи так и воротит. Да, мне досталось от них! — вдруг в сердцах выкрикнул он. — Досталось! — сплюнул отчаянно. — А-а, чего там… Не стану скрывать. Жена моя… родная жена, — подумал, должно, подбирая слова поприличнее. — Ох же и сука была! — Степан Митрофанович аж скрипнул зубами, по-бычьи на сторону голову поворотил. — Не больно уж она любила, ласкала меня. Больше других. И это при мне. А сейчас? Без меня? Представляю, сейчас… — направляющий резко склонился к напарнику своему, к Чеверде, вырвал у него изо рта «козью ножку», задымил. — Как подумаю, что она теперя там вытворяет, вот из этого карабина б ее!
— А ничего. Не с кем ей там, в тылу теперь вытворять, — успокоил рябого Голоколосский. — Весь наш брат, мужики… Стоящие, настоящие мужики — все на фронте. Одни старички, дети да бабы остались.
— А и есть, ну так что? Смотри, какой прокурор. Сразу за карабин. А то ты не такой? Хотя и рябой, — снова убежденно пришил Орешного Лосев. — Честно! Здесь жены твоей нет. Признайся: бывало? Только не ври. Отвечай!
Орешный обвел всех ускользающим взглядом.
— Ну, отвечай. Но смотри! — наседал, пытал его Лосев. — Смотри, коли встретятся… Наши ли, чужие… И позовут. Поманят. А ты поскачешь им вслед? Или упрешься? Неужто упрешься? А ну, поклянись! Обещай! А мы… Как случится, напомним. Идет?
— Вот сам и клянись. Чего захотел, — огрызнулся вдруг Степан Митрофанович. Мрачно, недобро взглянул на помора. — А ты? Что ты, не такой?
Все ждали ответа. А Лосев потер ладошкой лоб и признался:
— Виноватый я перед своею. Ох, виноватый!
— Во, слышишь, Орешный, учись! — подхватил инженер. — Себя виноватым считает. Кается человек. А ты? Сразу за карабин.
— Да, братцы, да… Виноватый я, виноватый. Как вспомню, как ее забижал, как тиранил ее без зазрения совести… А с другими ее предавал… Поверите, не нахожу себе места, — заерзал на соломе помор. — Кажется, с фронта вернусь… Ради этого б только вернуться… Дай бог, вернусь, на руках ее стану носить. За все ее от меня тягости и тиранство.
— Ну и дурак. Вот тут ты дурак, — опять изменился в лице Степан Митрофанович. — Носи! Я поносил! Не успеешь и глазом моргнуть, как она тебе в зубы уздечку. И так, дурака, тебя в гору попрет.
— Дело… Дело, Степан, говоришь, — снова подал голос Игорь Герасимович. — Треска… Ой, прости, кит. Слушай, кит, что умный мужик тебе говорит.
Орешный крякнул довольно, лыбясь, стал скручивать «козью ножку», а Лосев насупился. Что-то из услышанного не вязалось как будто бы с его собственной жизнью, его личным опытом — его отношениями с женой и другими его немногими подругами. Если все это инженер о себе говорил, то получалось, что у того была большей частью не жизнь, а скорее игра, может быть, даже маленькие войны. А Лосев игры, никакой игры, стратегии, тактики, никакой самой простейшей войны с женщинами и вообще никакой войны меж людьми не любил и не мог ее вовсе вести.
А Матушкин с любопытством, напряженно все слушал. Забыл о своей же команде «всем спать». И чутко, старательно взвешивал и примерял к говорившим их каждое слово, интонацию, жест.
— Значит, что? — Пацан восхищенно заржал. — С ними, с бабами, понахалке надо? Смелей?
— О, то самое! — опять, как давно выношенное и решенное, сразу отрубил за инженера рябой.
«А ведь чернявый, — вспомнил вдруг Яшка, — мастер тот, новый, вроде так он Тосю и взял. Говорили же… Заманил ее к себе в комнату, дверь на замок. Вроде сперва кричала, звала. А потом? Потом только с ним, только с ним и ходила».
Было это перед самой войной. Зачислили Яшку тогда в ФЗО. Работала там Тося уборщицей. Налитая, с прущей из дешевого платья фигурой, с румянцем во всю щеку. Спокойная, молчаливая, но не робкая. Деловая просто, серьезная. Яшка, как увидел ее, глаз с нее не спускал. А когда однажды почти голую застал на пляже, так и зашелся весь, голову потерял. Стал потом бегать повсюду за ней, подсматривал, когда она мыла полы. Ночами не спал, терзался, страдал, а заснет — являлась ему во сне.
Что было бы с Яковом дальше? Она ведь старше была. Он был совсем еще робким, зеленым юнцом, а она созревшей давно уже женщиной.
А Тосю он, оказывается, так и не смог позабыть. Она, с которой так и не случилось переступить заветного порога, осталась для Яшки особенной. И, слушая Голоколосского, Яшка с горечью вдруг подумал, что Тосю он, скорее всего, уже никогда не увидит. Неужто никогда? Эх, жаль, черт возьми! А здорово было бы! Не мальчишка, а взрослый уже, с усами, такими же, как у инженера, плечистый, в новенькой форме. Вся грудь в медалях и орденах. И тут вдруг она… Смело бы вышел Тосе навстречу. Не то что прежде, не бледнея, не прячась. И она бы сразу к нему. «Ошиблась я, Яшенька. С мастером этим, с чернявым связалась. Ох, как тогда я ошиблась! Один только ты нужен, Яшечка, мне. Только ты!» И бросилась бы Яшке на шею, стала б его обнимать, целовать.