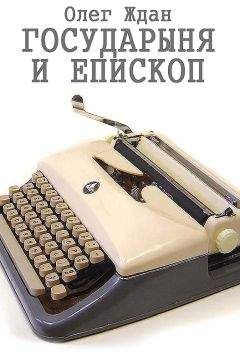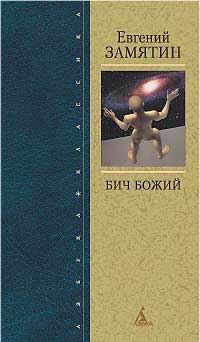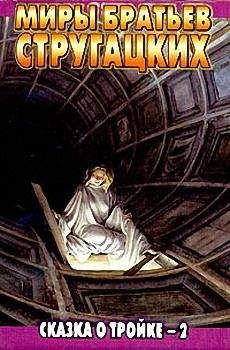А в сентябре 1783 года случилось важное для преосвященного событие: он был возведен в сан архиепископа и назначен членом Святейшего Правительствующего Синода. За претерпенные труды и непогоду… Двадцати семи лет он был пострижен в монашеское служение Богу, на двадцать седьмом году служения стал архиепископом.
Однако спокойной жизни не получалось и нынче. Зимой и весной следующего года вдруг взбунтовались униаты Мстиславского уезда. В селе Подлужье шляхтичи взломали двери присоединившейся к православию церкви, привели униатского священника, приказали начинать литургию, а священный антиминс, лежавший на престоле, растоптали как схизматический.
Некий шляхтич Горлинский вместе с униатским попом избили священника Кострицкого, перешедшего в православие, а гвардиан, то есть, хранитель бернардинского монастыря Любавичей угрожал расправой прихожанам, хотящим подписаться на дизунию.
Напрасно! Целыми деревнями крестьяне возвращались в православие. Времена изменились, власть Речи Посполитой закончилась, ныне здесь земля великой России, значит, православная земля.
— Это что же, так и будем жить под рукой России? — произнес капитан-исправник Волк-Леванович, когда, как обычно, они с Радкевичем прогуливались по замечательному городскому саду.
Радкевич был большой любитель цветов, благодаря ему здесь каждую весну устраивали клумбы и засевали необычными для этих мест цветами. Причем предпочитал такие, чтоб, сменяя один другой, цвели и пахли все лето и осень. Прогуливаясь, он время от времени наклонялся, чтобы уловить аромат, и если запах был хорош и чувствителен, с улучшенным настроением шел дальше.
— Почему — под рукой? Мы теперь и есть Россия. Империя! — посмеиваясь, произнес он.
Но Волк-Леванович был равнодушен к цветам, и поклоны Радкевича его сердили. Тем более раздражал голос: судя по усмешкам, ему уже все равно — Польша, Россия. Только бы росли и пахли цветы. Значит, пятнадцати лет, прошедших со времени раздела Речи Посполитой, достаточно, чтобы переломить человека. Еще немного и станет он первым патриотом России.
Он, Волк-Леванович, уехал бы куда-нибудь ближе к Варшаве, но здесь, на Мстиславщине, ему принадлежали три небедные деревеньки, а что там? Здесь он капитан-исправник с хорошим жалованьем, а что — там? Что касается Радкевича, то его и силой отсюда не выгонишь. Сад и цветы на клумбах — только часть его непонятной страсти. Все знали, что и зимой, и летом по вечерам он то взбирается на Замковую гору, то идет к Тупичевскому монастырю, то в Лютненский лес — стоит над обрывами холма, глядит вкруг себя, дышит, как перед смертью, и улыбается неизвестно чему, почему и кому. Может, самому Богу? Или ангелам?
Волк-Леванович всегда подозревал Радкевича в малом патриотизме, в том, что он — плохой поляк, но что поделаешь, лучшего нет. Впрочем, Радкевич вовсе и не поляк, он литвин или белорусец, и слава Богу хотя бы за то, что католик. Не удивятся, однако, люди, если однажды поменяет веру, перейдет в православие.
— Империя! — повторил за ним Волк-Леванович, но морщась, будто хватил кислого. — Россия! И здесь Россия, и там Россия. И на севере, и на юге. Везде Россия! А главное, Сибирь — тоже Россия. Страшно!
— А морозы там, — сказал Радкевич, — птицы на лету падают. Но цветы выживают. Правда, там другие цветы. Интересно бы посмотреть. А как ты думаешь, скворцы в Сибири есть?
Ну вот, подумал Волк-Леванович, больше его не интересует ничего.
Самое смешное, однако, в том, что Радкевич приказал развесить скворечники в городском саду, и в тот период, когда они поют, подыскивая себе пары, он тоже приходил в сад и посвистывал вместе с ними. И получалось у него не хуже, чем у самых голосистых скворцов.
— Не позорься, — сказал ему Волк-Леванович на правах старого друга. — Свисти дома.
Но дома неинтересно. Иное дело — в саду, на рассвете, выбрав себе партнера и наслаждаясь весной.
— Идем, я тебе покажу место, где такой закат солнца — душа заходится, — вдруг предложил Радкевич. — Сейчас самое время. Это у деревни Здоровцы. Только быстрее надо. Пока дойдем. Успеть надо, чтоб только-только коснулось земли. Просто как ангелы его за край земли опускают. Осторожно так. На всю жизнь память.
— Не хочу я! — почти вскричал Волк-Леванович. — Что тебе эти закаты? Что — память? Нас, может быть, скоро заставят принять православие! Слышал? Епископ Конисский приедет. Думаешь, просто так? Показаться Екатерине?
Наконец Радкевич задумался.
— Нет, — возразил он, — Екатерина даже иезуитов поддержала. А Конисский уже приезжал в Мстиславль. Он только с униатами воюет.
— Разгонит униатов — возьмется за нас.
— Нет, этого не будет. Я был на его службе, когда приезжал прошлый раз. Ничего такого. Да и что он может? Наша вера — на весь мир.
Волк-Леванович загрустил: похоже, он терял приятеля.
— Послушай, — сказал он, — конечно, нам деваться некуда, нас уже проглотил этот левиафан. Но помнишь ли, что сказано в книге Иова? Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов.
— Ясно, помню. Надежда тщетна: не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелится потревожить его. Так что же ты хочешь? Что можем мы, слабые и одинокие? Христос заповедал учиться у Него смирению: …научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем.
— Надо хотя бы внутри себя помнить, кто мы. Если помнишь главное, тогда ничего не страшно. Тогда левиафан бессилен.
— А-а, это правильно, — с облегчением согласился Радкевич. — Это главное. В себе — это хорошо. Ну как, пойдем?
Но Волк-Леванович уже забыл, что предлагал Радкевич.
— Покажу тебе красоту. В самом деле, такого больше нигде нет. Главное, не опоздать. Пятнадцать минут — и нет его.
— Чего нет?
— Солнца. Осень впереди, глухая пора. Да и зима. Пойдем!
— Нет, — отрезал Волк-Леванович. — Мне надо по делам.
С сожалением глядел ему вслед. Что за страсти у него в голове? Будто можно насытиться красотой на всю зиму.
Вдруг стало понятно, что императрица выедет зимой, — дорога далека, всякие непредвиденные обстоятельства могут случиться, а князь Потемкин, конечно же, желает показать ей Тавриду, или, если по-татарски, Кырым, во всей южной красе. Однако — когда? Мысли об этом не оставляли Энгельгарда, тем более что он обязан был встретить императрицу на границе со Смоленской губернией и проводить до границы с Черниговской. Как ехать, через Мстиславль или Оршу?
Встречать государыню определенно захотят архиепископы Богуш-Сестренцевич, Ираклий Лисовский, Ленкевич и конечно Георгий Конисский.
Преосвященный уже не раз говорил пред ней — в Петербурге в 1762 году, на коронации императрицы, и в 1780 в Могилеве при заложении храма святого Иосифа, когда императрица приезжала на встречу с австрийским императором Иосифом Вторым, а также чтобы взглянуть на присоединенные белорусские земли. Во время закладки храма случилось неожиданное: ее жемчужное ожерелье упало в котлован. Ожерелье достали, и она тут же подарила его преосвященному Георгию на четки. А прощаясь, наградила бриллиантовой панагией. Видно, чем-то все же он особенно был ей по душе.
Генерал-губернатор Белоруссии Чернышев к приезду императрицы выписал итальянскую оперу, и Екатерина была весьма довольна. Семь дней провела она в Могилеве. Правда, дважды ездила в Шклов к своему бывшему фавориту Зоричу.
А вот к тогдашнему Могилевскому губернатору Петру Богдановичу Пассеку у нее нашлись претензии: более семи тысяч рублей недоимок насчиталось в губернии.
— Поедешь ли в Мстиславль, владыко? — спросил Энгельгард при встрече.
— Да! — ответил Конисский с вдохновением. — Известно уже, когда матушка выезжает из Петербурга?
— Нет, но думаю, после Рождества. Крайне — на Масленицу.
— Скорее бы! — воскликнул архиепископ. — И дай Бог ей счастливой дороги! — перекрестился.
Конисский многим был ей обязан. Конечно, и России, и ему, смиренному монаху, государыня Екатерина Алексеевна послана Богом. Однако он сильно был озадачен, когда она издала указ, отнимавший у монастырей и церквей земли. Были известны злые слова императора Петра Алексеевича о том, что многие бегут в монастыри не Богу молиться, а хлеб есть. Но ведь он, великий государь, не стал отнимать земли! Как теперь жить монахам?
Вся Россия следила за жизнью императрицы, но внимательнее иных лица духовного звания. Епископ Георгий Конисский — особо пристрастно. Некоторое успокоение приносило вспоминание о коронации Екатерины Алексеевны, о том, с каким вниманием слушала она его несовершенные слова. Когда государыня предприняла поездку во вновь присоединенные к России земли после раздела Польши и направилась в Полоцк, где особенно было много униатов, преосвященный заволновался по-настоящему: как поведет себя Екатерина Алексеевна в таком окружении? Многое зависело от этих дней. Скоро пришло известие, отрадное всем: и католикам, и иезуитам, и униатам императрица уделила равное внимание, но православному Богоявленскому монастырю сверх того подарила 500 рублей. Не одну благодарственную молитву вознес тогда преосвященный Богу. Не в достаточной сумме дело, а в том, что подчеркнула государыня свое душевное расположение.