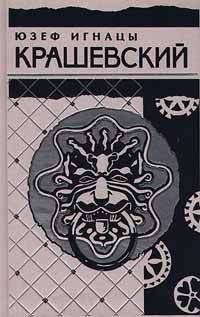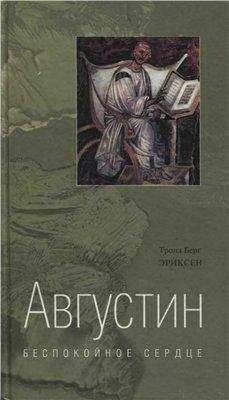Говоря это, он плакал, а мечник, взволнованный его словами до глубины души, дрожал, совершенно испуганный, стоя, как перед пророком, бледный и онемевший. Наконец, приор умолк и опустил голову, как будто его сломило это страшное видение. Он сделал рукой знак Замойскому, чтобы тот удалился, пал на колени на кирпичном полу и, сложив руки, начал молиться.
Как граф Вжещевич обжегся у Ченстохова, и как уговорил Миллера попробовать того же
Шведы удалились, после них остался лишь дым, поднимавшийся от сгоревших строений около костела св. Варвары. Они оставили огонь, как угрозу, как напоминание; раздули пламя, точно говоря этим, что еще вернутся.
Когда Вейхард уехал верхом, гневный и разъяренный, и очутился довольно далеко от монастыря, ему преградила дорогу нищенка Констанция. Сначала, как только загремели пушки и засвистели ядра, она начала было танцевать и петь, как будто эта музыка довела ее до безумия; потом забежала впереди графа, со смехом заглянула ему в глаза, пожала плечами и повторила, кланяясь несколько раз:
— До свидания! До свидания!
Вейхард сделал вид, что не видит и не слышит этой насмешки, так как не хотел мстить бессильной старухе, в которую по собственному побуждению выстрелили несколько шведов, но ничего ей не сделали. Она кричала, вытягивая руки, как бы ловя в воздухе пули:
— До свидания, господа! До свидания, пан Калинский! Ксендзы кланяются великолепно! Слышите, как вас униженно просят, как вас заклинают… Ха! Ха! Какой на них напал страх… со страху даже стрелять начали… Смилуйтесь, езжайте подальше и не пугайте их так скверно…
Неприятели вскоре исчезли, и из местечка сейчас же прибежали, рассказывая чудеса о них и их угрозах, жители, у которых неприятель забрал на убой, по хлевам, коров и телят, поубивал скот, разграбил домашний скарб, выпил водку, мед в неслыханном количестве. Как всякие разнузданные грабители, которых распускает война, шведы чего не могли съесть или забрать, то порезали и повиливали, чтобы после них не осталось; нашумели, накололи, наподжигали и ушли, провожаемые проклятиями людей. Страх после них поддерживался еще угрозами, которые они бросали жителям. Говорили, что они только передовая часть огромного войска и указывали на Миллера, который идет с вспомогательными войсками, с пушками, с могучей силой.
Миллер в это время грабил в Серадзском воеводстве, когда раздраженный Вейхард явился к нему, подстрекая его к предполагавшейся прежде, но потом отложенной осаде Ясной-Горы. Злость Вейхарда, которую он плохо скрывал, так как она была слишком велика, чтобы он мог сдержать ее в себе, гнала его к лагерю Бурхарда Миллера, чтобы ускорить нападение, не давая монахам времени приготовиться к обороне.
Обманутый в надежде, что, заглянув первым в сокровищницу ченстоховскую, он сможет нагрузить возы монастырским серебром и добром, Вейхард теперь пылал местью к монахам; так подействовал на него их неожиданный отпор. Он вместе с Калинским, которого прежде подучил, что говорить, отправился на квартиру генерала, и оба с принужденно веселыми лицами начали беседовать с ним о Ясной-Горе, рисуя ее взятие чрезвычайно легким и очень прибыльным.
Миллер был воином совсем иного рода, чем Вейхард, другой страны человеком, воином без мысли возводить в благородство это кровавое ремесло, без стремления возвыситься, без желания употребить его на славу или пользу страны, человеком не будущего, но целиком настоящего. Для него побольше захватить, пожить как можно роскошнее, обогатиться, не разбирая средств, было единственной целью. Путей, которыми шел к цели, он не выбирал, но в то же время не принимал добродетельного вида и не говорил громких слов, как Вейхард. Солдат и мужик, он шел по-солдатски напролом, не обращая внимания на кровь, которую проливал, смеялся при виде бесчинства и разбоя солдат, вешая и убивая, губя, грабя и не чувствуя ни угрызений совести, ни гнусности своего поведения. Большая часть шведов действовала таким образом в Польше, и до нынешних дней ее старинные замки свидетельствуют, как бешено, без совести и милосердия разоряли они этот край. Забирали не только скарб и золото, но даже вещи, связанные с историческими воспоминаниями, книги и памятники духовной нашей жизни! Крали самое дорогое — прошлое.
Сам еретик, Миллер не только не уважал святынь, но еще как бы вымещал на них свое отступничество, осквернял их охотно, издевался над ними и не щадил ни костелов, ни людей, посвятивших себя Богу. Гуляка, за чаркой во время пирушки, часто загорался он дикими стремлениями и, не имея возможности их заглушить, бил и намеренно наказывал, потешаясь над мучениями. Мало говорил, только смеялся или ругался. Наконец, совсем простой человек, он не любил держать пера в руках, а когда дело доходило до переговоров и писем, охотно пользовался чужими услугами. Более страшного человека не было в шведском войске, особенно для беззащитных, так как, совсем не думая о Карле-Густаве и его будущем, он шел всюду, как гибель, без милосердия, и позади себя оставлял только пустоши и дымящиеся развалины. Для него льющаяся кровь, стон, просьба, слезы не значили ничего или только докучали ему. Как смотрел, слушал, спокойно переваривал пищу, так без содрогания рубил и позволял рубить, убивал хладнокровно, с беспечностью ребенка, раздирающего живого, содрогающегося зверька, не понимая даже, чтобы это могло быть иначе. Вера его была совершенно поверхностна; он исполнял ее обряды с подобающей для солдата пунктуальностью, ходил в костел, как на парад; но никогда не задумывался над вопросами веры и не чувствовал потребности ее. Жил на земле только утробой и телом, а глаза его, заросшие бровями и веками, никогда не поднимались вверх. Зато верил во все чары, приметы и тому подобное очень крепко и очень их боялся.
Кто-то раньше шепнул ему, что ченстоховские монахи большие колдуны, и, может быть, из-за этого он не имел особенной охоты торопиться идти на Ясную-Гору. Стыдился, но скрыть все же этого не мог.
Когда ему доложили о Вейхарде, которого он не любил как льстеца и лицемера, но все-таки должен был его принять, по взгляду его, который он бросил на дверь, было видно, что гость для него совсем не был желанным. Миллер остановился в шляхетском домике, из которого без церемонии выгнал хозяина, и в самой лучшей комнате валялся на коврах, греясь перед потрескивавшим огнем камина.
— Ну, что? — сказал он, приподнимаясь немного при входе графа и окидывая насмешливым взглядом его изысканный костюм и барскую осанку. — Ну что, граф? Как Ченстохов?
— Ожидает генерала Миллера…
— В самом деле, граф? А почему же он не сдался вам?
— Ба, не особенно-то налегал я, а монахи, упрямые и слишком разумные, хотят, вероятно, побеседовать с большими орудиями, как видно. Страх их объял, правда, но они предпочли оборону, хотя и испугались меня немало. Знали, конечно, что с моими небольшими пушками я осаждать их не могу…
— Следовательно? — прервал Миллер.
— Следовательно, идемте, пан генерал, со мной, с Садовским и с Калинским, с панами: Зброжком, Кшечовским и Комаровским и, может быть, с князем Хесским.
— О! О! А зачем же нас столько на этот курятник? — спросил Миллер.
— Для большего еще страха.
— Да разве монахи думают защищаться?
— Не знаю, сомневаюсь…
— Ну, а вас как там приняли?
— Сначала просьбами, а потом пулей.
— Ах, черт! Даже пулей! Ха, ха! — громко засмеялся Миллер. — Посмотрите, пожалуйста, какие молодцы эти монахи, отчаянные! Эх, если бы только время, я научил бы их уму-разуму!
— Все-таки, в конце концов, надо занять Ченстохов.
— Ну, это пока придется опять отложить.
— Это было бы хуже всего! — вскричал Вейхард с гневом. — Знаете ли, пан генерал, что нас там могут предупредить, а ведь это лакомый кусок! Серебра там по уши, золота целые кучи, драгоценностей, жемчуга и бриллиантов ведрами; вин старых и медов целые погреба, неисчерпаемых, хоть купайся в них.
Генерал усмехнулся и хлопнул себя по животу.
— А ведь знает, чем меня тронуть, чтобы сдвинулся с места! — сказал он, кивая головой. — Ну, а как тут быть? Виттемберг и Дуглас гонят меня в Пруссию.
— Мы, увидите, генерал, скоро очутимся в Ченстохове. Сами говорите, что это курятник; значит, вам надо только придти, крикнуть и взять.
— Ну! А что же вы-то не взяли?
— Не имел орудий, да, наконец, — добавил скромно Вейхард, — я и генерал Миллер это совсем не одно и то же; я и не думаю с ним равняться.
Неловко польстив так Миллеру, Вейхард усмехнулся, довольный собой, как будто бросил собаке кусок отравленного мяса и добавил:
— Советую, идите, так как нигде, как там, вы не сможете обогатиться; а если опоздаете, то этот кусок кто-нибудь другой вырвет у вас из рта.
— А что же будет с Пруссией?