Все эти дни после памятного признания Ларисы Андрей сгорал от желания услышать ее откровение, ее покаяние. Однако не расспрашивал ее, страшась этой исповеди.
И вот теперь этот час наступил. Или теперь, или никогда! Она сама откроет перед ними — отцом и сыном свою душу, не ожидая, когда они своими вопросами будут понуждать ее к признанию. И пусть они судят ее как хотят, любым самым страшным судом.
— Хотите, я расскажу о себе? — вдруг в страшном возбуждении спросила она, обводя их горящими глазами.
— Лариса! — с мольбой в голосе попытался остановить ее Андрей.
— Говорите, говорите,— понимая, что сейчас происходит в ее душе, попросил ее Тимофей Евлампиевич таким тоном, точно в том, что сейчас должна рассказать Лариса, он не услышит ничего необычного.
— И вы будете слушать меня? — недоверчиво посмотрела на них Лариса.— Но вы же думаете обо мне только хорошее. Ведь так вы думаете?
— Только хорошее,— подтвердил Тимофей Евлампиевич.
— Это вы так думаете. А он? А он? — Лариса кивнула в сторону Андрея.— Он же так не думает! Он думает, что я изменница, что я спасала свою шкуру! Что предала нашу любовь!
— Лариса, опомнись,— взмолился Андрей.-Ты слишком много выпила!
Тимофей Евлампиевич подошел к ней и посмотрел в глаза внимательным, неотступным взглядом.
— Дочь моя,— тихо, но внятно сказал он,— Рассказывай. Мы верим каждому твоему слову.
То ли потому, что он назвал Ларису дочерью, то ли потому, что неожиданно перешел с нею на «ты», Лариса успокоилась.
— Тогда, под Симбирском, был страшный бой,— медленно начала она.— Андрей знает. Я перевязывала раненых. А наши отступили за березовую рощу. Я даже не заметила. И здесь кто-то навалился на меня. Заломил назад руки. Я вырывалась… Потеряла сознание…— Она продолжала говорить отрывисто и так отчужденно, будто речь шла не о ней самой, а о каком-то другом человеке.— Наверное, от страха. Потом куда-то повели… я поняла, что на расстрел…
Ей хотелось рассказывать обо всем этом бесконечно долго и подробно, но вместо связного и обстоятельного рассказа вырывались лишь отрывистые фразы.
— Он спас меня. Мне уже завязали глаза… Каким-то грязным платком… Сейчас выстрелят… И кто-то крикнул: «Не стрелять!» Мальчишеский голос… Как из далекого детства… Потом он допрашивал. Я молчала… Только спросила: «Зачем вы меня спасли? Чтобы мучить? Убейте меня!» Он сказал: «Я завидую вашей стойкости». Позже он говорил, что расстрелял бы меня, если бы я выдала своих… А потом тихо добавил: «И если бы вы не были такой красивой…»
Она передохнула, выпила еще рюмку коньяку.
— Пал Симбирск. И он сказал: «С меня хватит. Я не хочу убивать. Не хочу быть ни белым, ни красным. Хочу быть просто человеком». Ночью мы бежали из Симбирска. И я попросила увезти меня к маме.
Лариса всмотрелась в Андрея, как бы желая понять, верит он ей или нет.
— А в станице…
За дверью жалобно мяукнула кошка. Тимофей Евлампиевич впустил ее. Кошка оказалась совершенно рыжим созданием — от аккуратной, аристократически миниатюрной головки до кончика хвоста. Лишь шея, брюшко и полоски на задних лапках были ослепительно белые и выглядели как праздничное дополнение к ее основному наряду. Была она очень пушистой, шерсть отливала здоровым блеском, в рыжих глазах светилась таинственная кошачья мудрость. Оглядев гостей, она без долгих раздумий прыгнула на колени к Ларисе.
— Боже, какая она бархатная,— погладив ее, радостно сказала Лариса,— И даже глаза рыжие.
— Потому и зову ее Рыжиком,— сказал Тимофей Евлампиевич,— хотя она особа женского рода. И знаете, Лариса, она доверчива только к хорошим людям.
Рыжик ловко устроилась на коленях Ларисы и принялась лапкой уморительно намывать свою мордочку, потом, свернувшись калачиком, замурлыкала.
Андрей, несмотря на некоторую разрядку, вызванную появлением кошки, пребывал в том напряженном состоянии, которое испытывает человек перед неизбежным потрясением. «Она не сказала, что полюбила его»,— жалкая надежда все еще теплилась в его сердце.
— Мы прятали его у мамы,— снова заговорила Лариса.— Сколько мы с ней пережили! — Она немного запнулась.— Он сделал мне предложение. Но я сказала, что у меня есть муж. И что надеюсь найти его. Мне и сейчас жаль этого благородного человека. Он был моим спасителем. Но лучше бы я погибла! А теперь судите меня…— безжизненными губами прошептала она.
Долгое молчание повисло в комнате. Все так же потрескивали дрова в камине. Тихо мурлыкала рыжая кошка.
— Ты даже не сказала, как его зовут,— удивляясь своему спокойствию, негромко сказал Андрей, как будто в имени этого ненавистного ему человека было сокрыто что-то важное и значительное.
— Олег… Олег Фаворский.
Андрей никак не мог понять, почему Лариса выбрала момент, когда они будут вместе с отцом. Значит, она надеялась на понимание со стороны отца и даже на его защиту? Или же, напротив, ждала, что они оба после ее признания отвергнут ее?
— Андрей,— укоризненно сказал Тимофей Евлампиевич.— Разве она была бы сейчас здесь, если бы любила другого? Ты совсем еще не знаешь женщин. А пора бы знать.
— Уходя от нас, он сказал, что преклоняется перед моей верностью…
Тимофей Евлампиевич подошел к Ларисе, порывисто обнял ее.
— Отныне ты моя дочь,— дрогнувшим голосом сказал он.— Встань, сын, поклонись этой женщине. Как я завидую тебе! Как рад за тебя! И помни, что любовь — это умение прощать.
У Андрея возникло ощущение, что она может через мгновение уйти от него и он снова потеряет ее, теперь уже навсегда…
— Лариса…— Он подошел к ней и поцеловал ее в глаза.— Лариса, за что мне такое счастье?
И всем стало легко, будто и впрямь над ними пронеслась очистительная гроза.
— А я буду ждать внука. Или внучку, что еще лучше. Хватит мне одного обормота — сына. Да поторопитесь. Неужто мне до самой смерти куковать одному и общаться только с Рыжиком?
— Мы постараемся,— сдерживая слезы, сказала Лариса.
После завтрака Лариса с интересом рассматривала книги.
— Человек — это пропасть, в которую смотришь, а она смотрит в тебя.— Было непонятно, в связи с чем Тимофей Евлампиевич вспомнил эту мысль Достоевского: то ли под влиянием исповеди Ларисы, то ли перед тем, как самому исповедоваться перед ними.— Хотите, я расскажу вам о трудах своих каторжных?
— Очень,— оживилась Лариса. Люди, чьим уделом было творчество, всегда вызывали у нее обостренный интерес.
— Я жажду познать диктаторов,— с жаром, без долгих предисловий начал Тимофей Евлампиевич,— Вот стеллажи с папками. Здесь, на этой полке,— все о Юлии Цезаре. Здесь — о Нероне. А вот сам Наполеон Бонапарт. А вот тут — Ленин и Сталин.
Андрей оцепенело посмотрел на него. «Уж не тронулся ли отец умом?» — испуганно подумал он, а вслух спросил:
— С какой стати ты причисляешь к диктаторам Ленина? Он же был истинный демократ! И революция — ради демократии. А Сталин? Где доказательства?
— Доказательства! — воскликнул Тимофей Евлампиевич,— Вот здесь все доказательства.— Он прошелся рукой по папкам, на корешках которых было выведено черной тушью одно слово: «Сталин».— Здесь все — от его рождения до последних газет с панегириками к его юбилею. То ли еще будет. Кстати, мы с ним почти в один год родились, он в тысяча восемьсот семьдесят девятом, я на год моложе. И тоже, представь себе, двадцать первого декабря!
Андрей смутился.
— Прости, отец, в этот раз я запамятовал послать тебе поздравление.
Тимофей Евлампиевич хитровато прищурился:
— Не беда, главное, что успел поздравить нашего Иосифа Виссарионовича. А у меня еще дата не круглая. Но если забудешь поздравить в следующем году — не прощу.
— Что ты! — запротестовал Андрей.— Тебе же стукнет пятьдесят!
— «Стукнет»! — передразнил его отец.— Когда «стукнет» — надобно уже думать о небесах. А полсотни — пора расцвета!
— Тем более что вы молоды духом,— поддержала его Лариса.
— Благодарю за комплимент, доченька,— согнулся в изящном поклоне Тимофей Евлампиевич.— Вот что, дорогой Андрюшенька, отличает неотесанного «правдиста» от интеллигентной женщины. Учись!
— Лесть не в моих правилах.
— Оно и видно. Особенно по юбилейному номеру твоей славной газеты. Ленин, увидев все это, горько пожалел бы о том, что в свое время основал «Правду». Надеюсь, на этих юбилейных страницах есть немалая толика и твоего личного елея?
— Папа, не надо со мной в таком тоне,— обиделся Андрей.— В конце концов, в любом государстве первое лицо окружено почетом.
— Но не настолько, чтобы это вызывало тошноту. Впрочем, не обижайся, я тебя не виню, ты служивый человек.— Он ласково положил ладонь на плечо сыну.— Все мы винтики этой системы. И все мы «будем петь и смеяться, как дети»,— читал я недавно такие стишата.
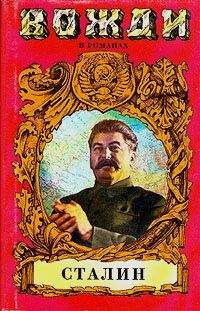

![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)


