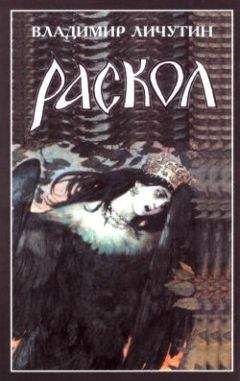Как очарованный, слушал Никон немыслимую ругань на Спасителя; прежде-то батогом бы перепоясал кощунника по спине, не раздумывая, и кулаком бы припечатал по сусалам, и пинком бы поддал под подушки, а коли кнут бы привелся под рукою, то самая добрая наука, заголив спину, оттянуть хорошенько еретика по звериным черным мясам, содрать кожу до кости. А иначе как вобьешь науку в заблудшую голову? Сейчас же Никон ссутулился на камне, убрав в ладони лицо, и с какой-то тоскою внимал бредням шиша, заплутавшего на русских дорогах и с умыслом забредшего на монашьи выселки. И бури-то в душе не было, ибо вся скверна, словно бы не достигая слуха, осыпалась от сердца, не задевая, отлетала прочь, как шелуха с еловых шишек. Ибо сказано: не раться с безумными, иначе блевотиной слов невольно отравишься сам…
«Я, было, виснул, распявшись. С год, поди, виснул. И знаешь ли, Никон, с креста верно что далеко и глубоко видать. Каждого насквозь, и никто не утаится. Люди все мелкие под тобою, как вши, и мерзкие, вонючие, утробе поклонники. Я тогда Христову науку хорошо спознал и мысли его расчуял. Великий он хитрован был, скажу тебе…»
Наконец-то монаха достали клеветы. Он, не подымая глаз, глухо, бесстрастно спросил:
«Ты явился меня казнить?»
«Живи, черт с тобою. Не больно и нужон…»
«Тогда зачем побеспокоил? Я же не звал тебя…»
«Как же не звал? Я твой голос за тыщи поприщ слышал, ты же умолял меня: ступай-де к Белоозеру и спровадь братца своего в ямку. Вот я и здесь пред очию. Иду, значит, берегом, а твоя голова лошадиная издаля-а видна, полнеба застила. Понял: ждет старый пень».
«Ну и зачем пришел?»
«Твою душу прикупить…»
«Моя душа непокупная».
«А, брось прихиляться, братец, – презрительно отмахнулся Голубовский. – Нет во всем свете такой души, кою нельзя бы умаслить. Оттого-то вы и уловлены Христом. Он подольстил вам, а вы и клюнули на рай небесный. А рай-от на земле и никуда не девался. Бог жил когда-то на горе, зовомой Арарат, до потопа еще, оттуда и Адама сбросил, когда тот с бабой сблудил…»
«Скажи, ты пришел надо мной смеяться?»
«Заладил, как сорока на коле. За тобой притащился, все ноги стоптал, трое сапог износил, пока с Березовки попадал. Ведь не ближний свет. Думал, ты с объятиями, ну хотя бы пивцом угостишь. … Слышь, Никон, хочу забрать тебя с собою. Огруз ты на одном месте сидя, весь мохом оброс, и все забыли тебя. Пень и пень торчит, чего с него взять, разве что собака, пробегая, задерет ногу».
«Распелся бес, веревку на свою шею мыля, – пробормотал Никон. – И наступят последние дни, когда пороки станут за добродетели, и всяк станет похваляться своими грехами…»
«Помнишь, я тебя к Разе на Волгу звал? – не расслышал Голубовский издевки. – Не отказался бы тогда от удачи, сейчас бы не ходил в рясе, облитой пустоварными штями. И пахнет-то от тебя, как от козла. – Гость брезгливо дернул Никона за рукав. – Я тогда все устряпал тебе, а ты отказался, дурак».
«Дурак я, – покорливо, улыбчиво согласился монах, не напоминая, где нынче Разя, где его кости и душа. – За дураком ты явился. А что с дурака взять? Лишь шерсти клок. На-на, состригай, может, куда сгодится святой волос. – Никон протянул к Голубовскому бороду. – И чего бродишь? Помирал бы ни то, жалконький мой, и мне бы место уступил. Сам измучился и людей сколь намучил…»
Голубовский вдруг вздохнул протяжливо:
«Я ж, Никон, в этих местах родился. Иль не знал? Думаю, отправлюсь-ко на родину помирать, приверну к патриарху к исповеди, покаюсь, да и приму святое причастие из его рук. Я ведь, как ты знаешь, Никон, царских кровей человек, и мне надобна твоя разрешительная молитва, что ты отпускаешь мне все грехи».
«Каких ты царских кровей? Бродяга ты и шатун, пошарить, дак и нож найдешь за опояской иль засапожник. Э-эх, – мягко погрозил монах, без обычной грозы. – От простого мужика ты гнилое семя. Тьфу, труха. И за коим жил? Только народ булгачил. Втемяшил в свою башку несуразную глупость – и ну тешить ее. Уж остарел, сам дедко летами, а все своей басне веруешь. Сколько ты вер-то переменил, дьяволий сын? Помнишь, как явился ко мне в Новугород из басурманских земель, плакал, в ногах валялся: де, прости. Я ведь тогда тебе поверил, бесов сын. Думал, ты не совсем с дьяволом повязался, тлеет в душе Христов огарочек. Ты меня тогда слезами и пронял. – Никон вдруг зорко вцепился в гостя взглядом, придирчиво оценил его. – Ишь вот, как по писанию… Душу-то продал, собака, вот и старость тебя не берет. Видкий ты рылом, зараза, народ Божий мордою своей помрачаешь, воистину князь тьмы. Слышь, Голубовский, а правду ли говорят, что ты сушеное детское сердчишко подмешивал в причастие?»
«Давал, народ спасая. А ты погублял».
«Что ты заладил: погублял, погублял… Ступай прочь, откуда явился».
Голубовский, видя, что затравил монаха, довольно улыбнулся.
Никон приставил ладонь козырьком ко лбу, взглянул на солнце. Самое время трапезовать, а после опочнуть. Вроде и парко, а кости под ватной рясою тоскнут от холода. И куда сторожа-то подевались? хоть бы прогнали бродягу с глаз долой и дали патриарху спокоя. И чего докучает покойник? из могилы выполз и, как стень, шатаясь по Руси, берет данью слабые ко греху души. Бердышом бы его абы на пику взять, да и обратно в ямку, а сверху камень-баклыш, что подо мною. Это уж на века…
Мысли были вялые, и стража не спешила, как-то странно затерялась, заблудилась в пристеньях монастыря; лишь под легким шалоником покачивается забытая вроде уда. Бесы принимают всякое обличье; может, варнак, что притулился возле, и не тот старый знакомец вовсе, что когда-то шлялся по агарянским землям, выдавая себя за царского сына, и пытался привести полки на Русь.
… Эх, и я когда-то полки затеивал, строил топорки да сабли, собирал с монастырей казну, ставил мужиков под ружье, гнал на Вильну и Стокгольм, и под Киев, чтобы родную землю очистить от ляхов и литвинов. А этот сучий сын тех же ляхов сзывал на нас.
… Тело зачесалось. Не черви ли опять завелись под ремнями? Мардария нет, вот кто с любовию бы обиходил. Ох, как люди глубоко не любят порою друг друга и гонят изгоном всякий добрый душевный порыв. Что им надо от меня, старика? Зачем лишили последней подпорки?
Вот так всегда: только заноют, замозжат кости, и сразу тело покрывается склизкой испариной, и начинает зудеть, словно плечи и меж лопаток обложили соленой селедочной шкурой. Идти бы надо в келью, но что-то держало и томило; ну, если правду этот шатун явился к исповеди, чтобы вернуться в Христово лоно, то надо бездомного оприютить, дать ночлега и накормить. Прежде-то и ноги мыл гостю, когда был в силе, а нынче и по нужде трудно сбродить.
Никон искоса подсмотрел за Голубовским. Ему было жарко, на лбу высыпал пот. Голубовский сидел прямо, как идол, лицо бронзовое, ни одной морщинки, будто вылеплено из сдобного теста, но в темных глазах вроде бы мука. Иль так помстилось? Что творится в голове несчастного? Попробуй без Бога-то и день прожить, ой-ой!.. Ведь не ради же потехи мял злыдня (если верить ему) такую долгую дорогу.
Опять засвербило под шлеями. Хоть становись к верее иль к углу Святых ворот и трись спиною, словно хряк. А и сладко-то! Снять бы вериги, натаскался. И святые подвижники прежде не вечную муку терпели, давали себе передышки. Но ключ от замка неведомо где на дне реки, вот и осталось лишь чесаться. И монахам не доверься за помощью, разнесут нелепицу по всей земле; довольно слухов пораспустили, один чуднее другого.
А бесу можно? Бесу дозволено довериться, ибо ему неповадливо, с него грех сымется, и, может, войдет тот каженик в человеческий разум. Да и доколе блудить?
Никон закряхтел, черви пошли плясать по язвам, выедать мяса.
«Чего егозишься, кила трет?» – очнулся Голубовский от раздумий и засмеялся; со светлого лица его сошла тонкая пелена.
«Сам ты килан, – буркнул Никон. – Я его за версту вижу, он ноги ставит, будто с лошади только что слез. И ты такочки шел, варвор».
«Не-е, я-то иду вприпрыжку. Хоть и не жеребец, но молодец… Иль худо тебе, патриарх, дак скажися».
«Да, худо мне, тошнехонько! Слышь, бродяга, пойдем-ка за тот травяной мысок, откуда ты выполз. Глянь, что у меня с телом деется?»
Никон, кряхтя, поднялся, тяжело припадая на ключку, поволокся за осотную кулижку, колышащую пушистыми метелками. Оводы облепили старца по плечам, он вроде бы не слышал их; комары гундели над головою, зависли высоким живым столбом, но монах не страдал от гнуса, так окорел, обесчувствился он кожею. Голубовского же всякая живулинка обходила и облетала стороною, он шел легко, будто не чуя земли.
«Блажен, кто верует в диавола! – пропел он тенористо. – Ибо всякая гада страшится его красоты и силы и бежит прочь!»
«Чур меня, чур… чего городит, кал скотиний, и слышать-то мерзко», – прошептал Никон, но Голубовский расслышал.