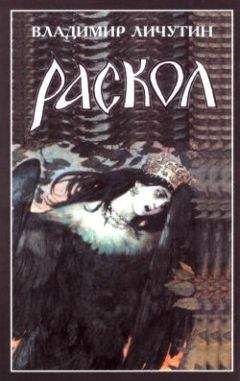«Чур меня, чур… чего городит, кал скотиний, и слышать-то мерзко», – прошептал Никон, но Голубовский расслышал.
«Ну вот, все-то ты собачишься, старик, честишь меня, а я к тебе, как к брату, с поклоном и любовью. Ну-ко, покажись, горбун, чего тебя мучает?»
Никон с трудом стянул теплую рясу и подрясник, и вязаную из овечьего волоса рубаху, да холщовую исподницу. От монаха дурно пахло прелью и больным потом. Когда-то могучее великанье тело, коему, казалось, не было износу, все окоростовело, обвисло, собралось в желвы, оморщинело, мослы выпирали, как на старом одре. Печально и грустно было смотреть на старца.
«Святым возмечтал стать? Вериги-то таскаешь, старый дурень. Зря мучаешься, владыка. По делам зачтется, а не по гордыне…»
«Каким святым, ох-ох, – проскрипел Никон, упрятывая глаза. Ему стало вдруг стыдно и неловко, что у дьявола слуги попросил помощи. – И малой-то муки вот не стерпел. Глянь-ко, что у меня под упряжью? Копошит и копошит, мочи нету…»
Ременная шлея вся изопрела, засалилась, осклизла, впитывая в себя черный дух долголетних страстей. Под нею кожа сопрела до мяса, и там во гноище вились черви, пожирая владыку.
«Бедный, бедный брат мой, – искренне пожалел Голубовский. – И что ж ты такую беду терпишь, что за нужда? Снял бы ношу, коли мочи нет нести. Ведь в гроб экое богатство с собою не уложишь. Все одно сымут по пути».
«А что, и снял бы, да ключа нет», – дрогнул Никон, а уж назад пути не было. Монах даже застонал от неприязни к себе. Боже мой, как высоко ты подымаешь земную тварь и так низко бросаешь ее, что и подняться из срама уж, кажется, не станет сил.
«Ключ – не диво, у нашего брата ко всему ход…»
Голубовский пошарился в торбе, достал шильце с крючочком и шутейно так пошарился в замке, стянул вериги.
«Укинуть рыбам на поедь иль погодить?» – Он поцокал языком, разглядывая язвы. Он даже испытывал удовольствие, глядя на гнездовища ненасытных тварей. «Уж чего бы жрать-то, кажись? – подумал весело, – ведь одна лошадиная шкура у патриарха и мослы, что не по зубам. Да сказывают заблудшие, что есть какая-то душа. Что за душа? Дым, пар иль прожорливая крылатая тварь, что сразу взмывает в облака за новой добычею? Кто видал ее обличье?»
Голубовский вырвал тростинку, почесал язву. Никон вздрогнул и задрожал. Э, брат, и где силы твои? Пришлец засмеялся, как заржал, утробно, грубо, и смех его, казалось, разнесся надо всем озером, и даже монастырские башни вдруг содрогнулись, и пошатнулись кресты на куполах церквей.
Никон похолодел.
«Так бросить в воду?» – повторил Голубовский.
«Нет-нет, – испугался Никон, схватил верижный крест и, целуя, притиснул к груди, взмолился отчаянно. – Прости меня, Господи, не суди строго, Спаситель, за слабость мою. Червь я тленный, червь окаянный впал во грех…»
«Много пакости ты натворил, патриарх, и гореть тебе в аду синим пламенем. А я кочережкой буду помешивать в костре…»
Голубовский засмеялся, раскурил фарфуровую трубочку и сквозь пахучий дым, обволакивающий его невесомые усы и бороду, назидательно завыговаривал старцу, хмелея от табаки:
«Ну что ж ты, Никон, Русь-то расклячил из гордыни лишь да по забаве пустого царишки, что занял мое место? Забыл, что нельзя соступить в одну воду дважды, в древность к грекам метнулся. А они уж иные и веру всю позабыли. Я хаживал по грекам, пустой народишко, скажу тебе, блинщики да менялы, кого бы надуть, жрут в два пуза и давно живут по латынам. Тьфу… Вскочила Русь по твоей указке одной ногой в лодку, а другую-то и позабыла на матером берегу. Скоро раздерет ее наполы. Воистину через тебя килу наживет, дай сроки. И такой великий раздрай пойдет по земле, да жаль меня не станет порадоваться. И въедет в престольную антихрист на белом коне. А может, еще доживу?» – мечтательно протянул Голубовский, торопливо давясь дымом.
«Но родники истока нельзя засыпать. Без истока и великая река засохнет. Не новин я хотел, а старин и великих истин. Боже мой! За шестьсот лет живую воду церкви загатили мусором, замутили неправдами».
«Какие истоки? Кто до них хаживал? Держись дедовой веры, вот и весь исток. Сам мужик, а мужицкое все забыл. На этом весь мир-то стоит и дух на нем же! – Голубовский нахально похлопал себя по тайным удам и зареготал. – Вот через х… -то мы вас и достанем», – Голубовский еще матерно, замысловато выругался, выбил из трубки в горсть нагоревшую труху, растер пальцем и, выгнав из ран плодущих ненасытных тварей, посыпал язвы еще горячим пеплом, смешанным с табачной крупкою…
«Ой-ох», – только закрехтал Никон от боли, и ему сразу полегчало. Его трясла дрожь, ему хотелось высказать всю истину своему вечному врагу, чтобы образумить пред грядущими муками, но тут от монастыря раздались зычные крики. Из Святых ворот, будто очнувшись, выбежала стража. Никон, пригнувшись в тростнике, зазирал за стрельцами, тем временем лихорадочно напяливая на себя вериги, накидывая на голое тело рясу. Исподницу и подрясник он скомкал трясущимися руками и теперь не знал, куда засунуть…
Эх, вот она старость; она и самого почестного и мудрого вдруг лишает не только ума и смекалки, но и решимости и всякого толка. Нет чуднее и жальчее пригорбленного беспомощного великана, который с каждой минутою увязает в зыбучий озерной ил.
«Ступай, братец, ступай, не мешкая, – попросил монах виновато. – Свидимся как ли? – Голубовский мешкал, и Никон снова заторопил. – Ступай, не медли. Тебя ведь ищут. Припрут кнутовьем, родную мать проклянешь».
«Не нукай, не запряг, – огрызнулся скиталец. – Прощай, Никон. Пусть земля тебе не станет пухом», – мстительно посулил он, закинул через плечо дорожную суму и нырнул в прибрежную заросль: зашевелились вихрастые метелки, испуганно взлетел кулик, и все стихло. Только далеко где-то, если прислушаться, замирая, шуршал камыш, будто там кралась водяная крыса.
Стрелец подскочил к Никону, взмахнул над согбенной головою топорком, визгливо заорал: «А ну, вертайся, лешак! Куда делся, не спросяся?»
Никон не заспорил, покорно потащился в монастырь, бормотал в бороду: «Поздно спохватились-то… Только и хотел доказать, что духовное выше плотского и мирского, а собинный друг не поверил мне». Монах еще что-то спорил сам с собою, и с лица не сходила тихая улыбка.
* * *
ИЗ ХРОНИКИ: «… Царь Федор Алексеевич мужал, становился способным к восприятию глубоких истин. Наибольшее влияние на него оказывала тетка-царевна Татьяна Михайловна. Она была старшей в семье, славилась особой духовностью и благочестием и являлась давней и верной почитательницей Никона. Она много рассказывала юному царю о той дружбе, что связывала Алексея Михайловича с патриархом. Но особое впечатление произвели рассказы тетки о Новом Иерусалиме. Он сам пожелал посмотреть его. И когда 5 сентября 1678 года царь в первый раз увидал монастырь, вся душа его прелепилась к нему. За два года он побывал здесь пять раз. Он молился за службами на Голгофе, жил по нескольку дней в монастыре, молча ходил всюду, смотрел, думал и проникался благоговением перед величием человека, начавшего созидать столь замечательное сооружение.
По указу государя строительство Воскресенского собора возобновилось. 2 декабря 1680 года царь обратился к архимандриту и старцам монастыря с предложением: «аще хощете, да взят будет Никон патриарх, наченший обитель сию. Дадите мне прошение о сем за своими руками, и Бог милостивый помощь подаст, и то дело исправится». Братия единодушно написала государю прошение.
Федор Алексеевич показал челобитную патриарху Иоакиму, сказав о своем желании вернуть Никона в Воскресенский монастырь. Иоаким отказался поддержать. Опечаленный царь написал Никону ободряющее письмо, в котором обещал пересмотр дела и освобождение. Он писал, что от многих слышит, что Никон «премудр бо зело и Божественного писания снискатель, и истинный рачитель и поборник по святой непорочной вере, и хранитель святых Божественных догматов».
Никон тем временем угасал. Архимандрит Кириллова монастыря Никита в середине 1681 года извещал Иоакима, что Никон «вельми изнемогает и близ смерти», что он принял схиму, не благоволив переменить имени. Никита спрашивал, как и где похоронить узника. Иоаким, ничего не сообщив царю, ответил, чтобы похоронили «якоже и прочим монахам бывает» и погребли на паперти церкви в Кириллове монастыре. Случайно узнав об этом, Федор Алексеевич приказал Иоакиму немедленно вернуть свое письмо, но тот ответил, что поздно, что письмо уже отправлено. А Никон в те же дни из последних сил сам написал письмо в Воскресенский монастырь: «… Ведомо вами буду, яко болен есмь болезнию великою, вставать не могу, на двор выйти не могу ж, лежу в гноищи… умереть мне будет внезапну. Пожалуйте, чада мои, не попомните моей грубости, побейте челом о мне великому государю, не дайте мне напрасною смертью погибнуть; уже бо моего жития конец приходит».